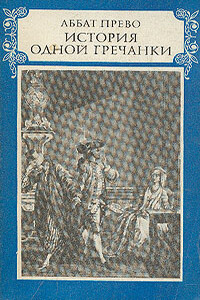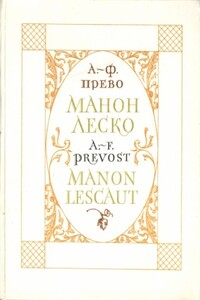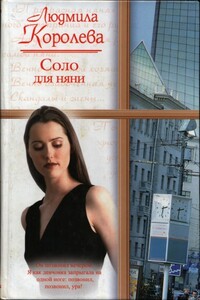Я принужден попросить читателя вернуться к тому времени моей жизни, когда я в первый раз встретил кавалера де-Грие; то было почти за полгода до моего отъезда, в Испанию. Хотя я редко расставался с моим уединением, но заботливость о дочери порою заставляла меня предпринимать небольшие поездки, которые я сокращал по мере возможности.
Однажды я возвращался из Руана, где она просила меня похлопотать в Нормандском парламенте по делу о наследстве некоторых имений: я передал ей иски на них моего деда со стороны матери. Отправившись через Эвре, где я ночевал в первый день, я на следующее утро прибыл к обеду в Пасси, которое от него в пяти или шести лье расстояния. При въезде в это местечко, я был удивлена, увидев, что все жители в тревоге; они спешно выскакивали из домов, и толпой бежали к воротам плохой гостиницы, перед которой стояло два крытых фургона. Лошади еще не были отпряжены и, по-видимому, были истомлены от усталости и зноя, – знак, что оба фургона только что приехали.
Я остановился на минутку, чтоб узнать о причине суматохи; но я немногого добился от любопытной толпы, не обращавшей на меня никакого внимания и по-прежнему спешившей к гостинице и толкавшейся в большом смятении. Наконец, у ворот показался стрелок с перевязью и мушкетом на плече, и я кивнул, чтобы он подошел ко мне. Я спросил его о причине беспорядка.
– Пустяки, сударь, – отвечал он, – я с товарищами провожаю до Гавр-де-Граса с дюжину веселых девчонок, а оттуда мы на корабле отправим их в Америку. Между ними есть хорошенькие, и это-то, по-видимому, и возбуждает любопытство этих добрых людей.
Я, вероятно, после этого объяснения отправился бы дальше, если б меня не остановили восклицания вышедшей из гостиницы старухи; она ломала руки и кричала, что это варварство, что это возбуждает и ужас, и жалость.
– В чем дело? – спросил я ее.
– Ах, сударь! – отвечала она, – войдите и посмотрите: разве от этого не разрывается сердце?
Любопытство заставило меня слезть с лошади, которую я оставил на попечение моего конюха. Я с трудом протолкался сквозь толпу и действительно увидел нечто трогательное.
Между двенадцатью девушками, которые были скованы друг с другом за середину тела, была одна, лицо и вид которой столь мало соответствовали ее положению, что во всяком другом месте я принял бы ее за особу из высшего сословия. Ее печаль, ее грязное белье и платье столь мало ее безобразили, что вид ее внушил мне уважение и жалость. Тем не менее, насколько дозволяла цепь, она старалась отвернуться, чтоб скрыть свое лицо от зрителей. Усилие, которое она употребляла для того, чтоб спрятаться, было столь естественно, что, казалось, проистекало от чувства скромности.
Шесть солдат, сопровождавших эту несчастную партию, сидели тут же в комнате, и я отвел их старшего в сторону, чтоб расспросить относительно участи этой красивой девушки. Он мог сообщить мне только самые общие сведения.
– Мы взяли ее из Госпиталя, – сказал он, – по приказу г. главного начальника полиции. Не похоже, чтобы она была заключена за добрые дела. Дорогой я несколько раз ее расспрашивал, но она упорно молчит. Но хотя я и не получал приказания обходиться с ней лучше, чем с другими, я все же оказываю ей некоторое снисхождение, потому что она, на мой взгляд, несколько лучше своих товарок. Вот этот молодой человек, – добавил стрелок, – может лучше, чем я, объяснить вам, причину ее несчастий: он провожает ее от самого Парижа и почти ни на миг не перестает плакать. Должно быть, он ей брат или любовник.
Я повернулся к тому углу комнаты, где сидел молодой человек. Он, казалось, был погружен в глубокую задумчивость. Одет он был весьма просто; но человека родовитого и образованного узнаешь с первого взгляда. Я подошел к нему; он встал, и в его взглядах, во всей его фигуре и движениях я заметил так много утонченности и благородства, что естественно почувствовал благорасположение к нему.
– Не обеспокоил ли я вас? – сказал я, садясь подле него. – Не можете ли вы удовлетворить моему любопытству относительно этой красивой особы, которая, как мне кажется, не создана для того жалкого положения, в каком я ее вижу?
– Но, тем не менее, я могу сказать вам то, что известно этим негодяям, – сказал он, указывая на стрелков. – Именно, что я люблю ее с такой жестокой страстностью, что стал от того несчастнейшим в мире человеком. В Париже я сделал все возможное, чтоб добиться ее освобождения, Но мне не помогли ни ходатайства, ни смелость, ни сила; я решился сопровождать ее, хотя бы на край света. Я сяду с ней на корабль, я поеду в Америку.
По крайнее бесчеловечие в том, – добавила, он, говоря о стрелках, – что эти подлые мошенники не дозволяют мне подходить к ней. Я имел намерение напасть на них открыто в нескольких лье от Парижа. Я подговорил четырех человек, которые за значительную сумму обещали помочь мне. Когда пришлось драться, эти негодяи бросили меня одного и убежали с моими деньгами. Невозможность одолеть силой заставила меня сложить оружие. Я предложил сделкам позволить мне, по крайней мере, следовать за ними, за известное вознаграждение. Желание поживиться заставило их согласиться. Они требовали, чтоб я платил им всякий раз за позволение поговорить с моей любовницей. Скоро мой кошелек истощился, и теперь, когда у меня пет ни су, у них хватает жестокости грубо отталкивать меня, только я сделаю к ней шаг. Сейчас лишь, когда, невзирая на их угрозы, я осмелился подойти к ней, они имели наглость прицелиться в меня. Чтоб удовлетворить их жадность, чтоб быть в состоянии продолжать путь, я принужден продать здесь дрянную лошадь, на которой ехал до сих пор верхом.