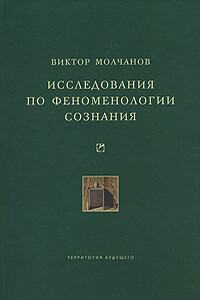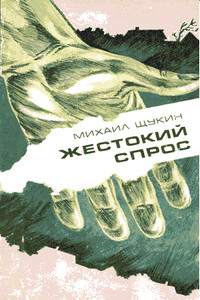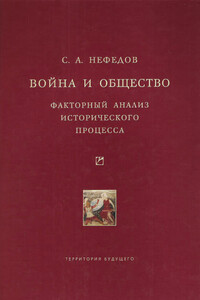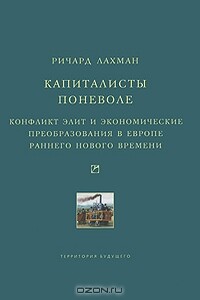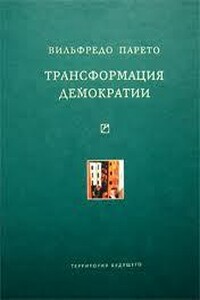ОПЫТ И КОММУНИКАЦИЯ. ОТ ИЗОЛЯЦИИ К РАЗНООБРАЗИЮ СООБЩЕСТВ (вместо предисловия)
Продумывать мысли других, чтобы их усваивать, и свои, чтобы их отчуждать – это предполагает сообщество и даже многообразие сообществ, составляющих, так сказать, внешнее Apriori «одинокой душевной жизни», а, проще говоря, фактически предшествующих ей. Последняя, однако, имеет автономию, свое внутреннее Apriori, свои границы и свой собственный опыт, который, в свою очередь, может стать парадигмой для новых сообществ. Палитра опыта, несомненно, бледнеет в сфере суждений, но на гомогенном фоне логоса опять могут проявиться различия опыта.
Сообщества, как известно, не вечны, и, понимая феноменологию как способ мышления, Хайдеггер отмечал, что ее время как школы прошло. Однако феноменологический способ мышления реализовался и реализуется до сих пор в самых различных сообществах и школах.
Мышление и сообщество не поддаются взаимной редукции, эта несводимость принимает конкретные формы опыта, изменяющиеся в зависимости от исследовательских и педагогических задач, с одной стороны, и принадлежности к различным философским и нефилософским сообществам – с другой. Различие и колебание между одиночеством мысли и чувства и коммуникацией суждений – одно из основных различий, характеризующих не только философскую и научную, но и человеческую жизнь вообще.
История феноменологической философии и феноменологических сообществ в России не так, конечно, богата событиями, как история европейской или даже американской феноменологии. Пока это только эпизоды интерсубъективности, некоторые из которых стали фактами моей биографии. Само собой разумеется, что первые влияния и мои первые философские сообщества не могли быть в 60-е годы феноменологическими, однако они не были и всецело догматическими, хотя «пробуждение от догматического сна», модификацией которого была моя вера в то, что после Гегеля – лишь эпигоны (исключая, конечно, марксизм) все же потребовалось. Это произошло на третьем курсе философского факультета МГУ благодаря контрасту чрезвычайной ясности постановки проблем и почти абсолютной непонятности излагаемого содержания. Такой диссонанс понятности и непонятности сыграл для меня не последнюю роль в приобретении опыта восприятия и анализа философских идей.
Его виновники со стороны ясности – Николай Федорович Овчинников и Карл Поппер, со стороны неясности – Мераб Константинович Мамардашвили и Г. В. Ф. Гегель. Η. Ф. Овчинников – мой первый учитель в философии, и общение с ним продолжается уже почти 40 лет – знакомил тогда слушателей своего спецкурса не только с современной философией науки (в частности, с философией К. Поппера, доклад которого «Эпистемология без познающего субъекта» я прочитал по-английски уже в 1969 г., т. е. почти сразу же после его опубликования в материалах Амстердамского конгресса по философии науки в 1968 г., и тогда это была невиданная быстрота распространения философских знаний!). Он учил нас отделять реальные проблемы от надуманных, вопросы – от досужего любопытства, формы знания – от идеологем. Пожалуй, это решающие различия для «ориентации в мышлении».
На спецкурсе М. К. Мамардашвили по «Феноменологии духа» Гегеля обстановка была совсем другая. Шесть-семь студентов внимали гладкой русской речи, которая воспринималась как речь на иностранном языке, еще не вполне освоенном слушателями. И все же что-то привлекало, притягивало в этой попытке разъяснять Гегеля не на гегелевском языке. Сама эта установка была вполне понятна, однако восприятие различия языков, да еще на материале гегелевской «Феноменологии», создавало ощущение предела понимания.
Разумеется, осознание и осмысление этого продуктивного контраста пришло позднее, когда я столкнулся с оппозицией понятности и непонятности у Гуссерля и Хайдеггера. Речь, конечно, не о понятности текстов – Гуссерля иной раз труднее понять, чем Хайдеггера, – но о различии изначальных установок феноменологии сознания и герменевтики фактичности. Вопрос Хайдеггера, обращенный к Гуссерлю: «Как возможна непонятность сущего?» – ставил под вопрос универсальный характер конституирования и смыслообразующих функций сознания. Истоки смысла нужно было искать не в сфере очевидности, но в смутной и усредненной повседневности. Именно повседневность должна была стать сферой беспредпосылочности. Именно здесь человеческое бытие должно было раскрыть себя, по Хайдеггеру, до всякой теории и мировоззрений. Еще до Хайдеггера аналогичные возражения Гуссерлю выдвигал Г. Шпет: смысл предмета должен быть понят из его предназначения, из его социальной функции, благодаря герменевтическим актам, а не только из эмпирической или идеальной интуиции. Аналогичная критика не замедлила явиться и после Хайдеггера: Сартр, Ингарден, Левинас, если назвать самых известных критиков. Гуссерль как бы придумал для своих учеников игру: найти неподвластные рефлексии конституенты мира и попытаться их эксплицировать. Найти оказалось легче, чем эксплицировать: понадобился полухудожественный – полуфилософский язык, претендующий на статус, равный самому бытию, спонтанности сознания, социальной реальности и т. д. Однако вещи никак не хотели «самоэксплицироваться», являться вне определенного опыта, который все-таки предполагал свою собственную дескрипцию, а не только дескрипцию вещей.