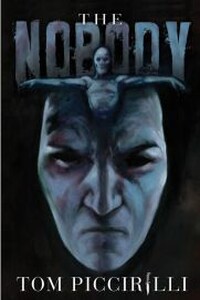Два испытания — одно вслед за другим и одно вследствие другого — пали тяжким бременем на плечи Атланта, поддерживающего устои старого мира[1]. Испытания огненные, испытания грозовые.
И первое испытание — испытание огнем мировой войны — сразу испепелило ростки братства «международного», и на пожарище его укрепило цементом «национальной» злобы устои старого мира[2]. Ибо национальная рознь — крепкий цемент для старых кирпичей; пока есть она — Атлант может быть спокоен: своды не обрушатся, не погребут его под развалинами.
Но огонь, обжигающий кирпичи, укрепляет своды лишь до того мига, пока не перейдет он в пламя испепеляющее, пока из огня-раба не станет он огнем творческим, пока из огня кухонной плиты не станет он огнем молнии. И тогда — горе устоям Атланта! Ибо —
Есть суд всего, что дышит, живет и растет —
суд огнем.
Огонь
последний судия — все судит и все разрешает.
А молния — кормчий.
Последнее испытание
через огонь.
Так слышим мы в «Предании от Гераклита Эфесского» (А. Ремизов)[3]; так знаем мы: мировой огонь обрушит на Атланта своды старого мира. И пришел огонь — в грозе и буре. Молния — кормчий…
И второе испытание — испытание в грозе и буре революции — сразу расшатало крепкие своды; мировой вихрь вновь понес на старое пожарище весенние семена «международного братства», ринулся на старые устои, покачнул великана Атланта, обрушил часть сводов на головы властителей старого мира.
И как тогда не выдержали «властители дум» испытания огнем войны, так не выдержали они теперь испытания в грозе и буре революции: испугались, пали духом, озлобились, возненавидели, понесли свои кирпичики для спешной поддержки устоев Атланта, поспешили, добродетельные муравьи, скорее вновь лепить разбросанный бурей мещанский муравейник…
Муравьи, мириадами тел, могут потушить пылающий огонь. Потушат ли? Да, если не разгорится он в мировой пожар. Разгорится ли? И с надеждою одни, со страхом другие — ждут: удастся ли старому миру сотнями тысяч тел погасить огненный вихрь, удастся ли ему гекатомбой трупов укрепить расшатанные устои? Ибо если одна лишь революция русская такой грозой и бурей обрушилась на старые своды, то что же будет при революции мировой?
А что это будет — все знают, «не зная ни дня, ни часа»: будет раньше или позже, будет «наперекор стихиям», будет, несмотря на гекатомбы тел и даже вследствие их: ибо если есть на земле неискупленные страдания, то зато нет на земле неоправданной жертвы.
Все муравьи это знают — и боятся, злобятся, ненавидят, тушат мировой огонь ковшиками злобы, пригоршнями мелкого ненавистничества. Подлинно: какие огромные события, какие маленькие люди!
В зеркале русской литературы, «как солнце в малой капле вод», отразились мировые события — и как мало оказалось в ней людей, которые увидели бы размеры совершающегося, почуяли бы веяние мирового вихря, отдали бы свои творческие силы не оплакиванию и поддержке старого, а строению и рождению нового! О мелкой злобе, о ядовитых брызгах слюны — я уже и не говорю: разверните любой газетный лист, любую книгу этих стражей и блюстителей старого Атланта…
Есть там и искренняя боль за старое, исконное, навеки уходящее, есть и мелкая трусость придавленного вихрем «взбунтовавшегося раба». Ибо, поистине, вот где его царство: в русской литературе, а не в казарме, не на фабрике, не в деревне. Взбунтовавшимся рабом оказался вчерашний «властитель дум», русский писатель во всей своей массе. Стоит ли называть имена?
Звали они революцию — и пришла она. Но пришла не в тишине, не в тихом пламени неопалимой купины, а в грозе и буре народного вихря. Ждали они ее в виде разубранного флагами корабля, торжественно салютующего холостыми зарядами, — пришла она в вихре пыли, грязи, крови, среди бурных валов бушующего моря. И мимо них проходит корабль революции — они с ужасом отвернулись от него.
Не узнали они друзей моряков
Им знакомых давно,
Не узнали снастей, ни их парусов,
А сами соткали для них полотно —
И проходит мимо них этот корабль — «для тысячей нем, не понят никем, ибо слишком он был непохож на скучную ложь — на рассказы учителей местных» (Э. Верхарн)… И в мелкой злобе своей, а порою и в искренней боли своей, не слышат и не видят эти «местные учители» и их ученики того, что так ясно, казалось бы, для каждого, имеющего очи, чтобы видеть, имеющего уши, чтобы слышать.
Но есть и видящие, и слышащие. От «народных» глубин, от «культурных» вершин — поэты и художники радостно и скорбно, но чутко и проникновенно говорят нам о свершающемся в мире. Не боятся они грозы и бури, а принимают ее всем сердцем и всею душою: «Вестью овеяны — души прострем в светом содеянный радостный гром» (Андрей Белый)[5]. Так говорит один, и отзывается ему другой: «Грозно гремит твой гром, чудится плеск крыл, — новый Содом сжигает Егудиил» (Сергей Есенин)[6]. От вершин, от глубин — чутко чуют они то новое мировое, что идет теперь в грозе и буре революции: разрушение Содома старого мира, гибель Атланта и рождение, осуществление новой России, новой Европы, нового мира.
Видит это мировое и Александр Блок, поэт розы и креста