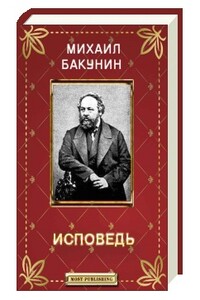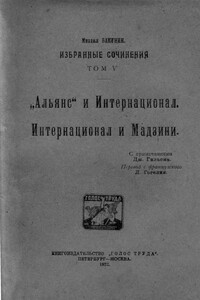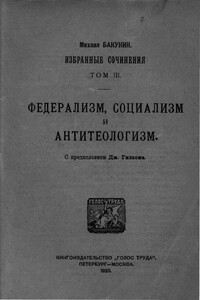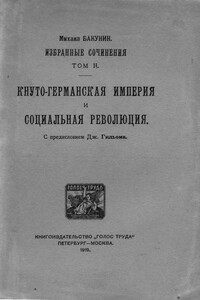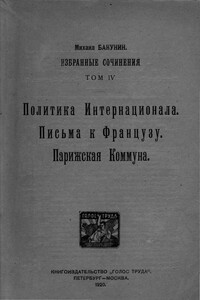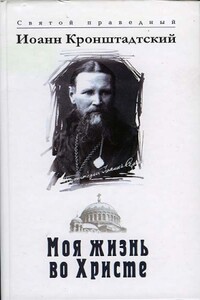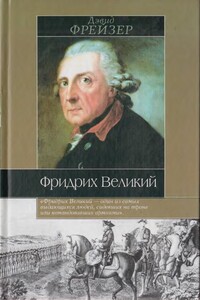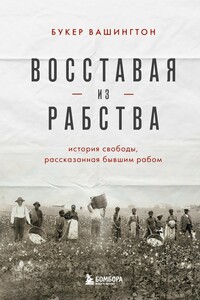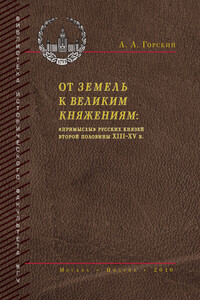Вскоре после ареста Бакунина в Саксонии начальник австрийских войск в Кракове в июне 1849 года сообщил об этом событии русскому майору, исполнявшему обязанности краковского коменданта, на предмет выдачи Бакунина России.
Но сразу получить Бакунина в свои руки царскому правительству не удалось, несмотря на все его нетерпение и хлопоты. Узнав о предстоящей выдаче Бакунина австрийцам, граф Медем, тогдашний российский посланник в Везде, поспешил переговорить с австрийским премьером кн. Шварценбергом, который обещал по миновании надобности австрийского правительства в Бакунине передать узника России. Условленно было, что Бакунин будет доставлен в Краков и здесь передан русским жандармам. Рассчитывая заполучить Бакунина в свои руки еще весною 1851 г., российские власти в Польше уже в марте направили в Краков жандармский конвой для приемки арестанта и доставления его в уготованное ему место злачное. В души российских жандармов начало даже закрадываться подозрение, что австрийцы вовсе не собираются выдавать им Бакунина. Но страхи эти оказались напрасными.
Бакунин чувствовал, что австрийцы собираются выдать его России. Эта перспектива приводила его в ужас: ее он боялся больше всего, больше смерти. Выражая такое опасение в письме к австрийскому министру внутренних дел Баху, он присовокуплял, что будет всяческими мерами вплоть до самоубийства противиться выполнению этого замысла. Но австрийские власти очень мало считались с такими заявлениями. Они заранее приняли все меры к тому, чтобы немедленно после приговора заключенный был направлен по назначению.
15 мая 1851 года Бакунин был приговорен к смертной казни австрийским военным судом, вечером того же дня он был вывезен из Ольмюца в Краков, куда доставлен вечером 16-го; 17-го был передан русским жандармам на границе, а 11 /23 мая, т. е. через 8 дней после вынесения ему приговора, сидел уже в 5-й камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. На докладе Дубельта об этом событии Николай написал:
«Наконец!». А после полуторамесячной передышки, находя, что узник достаточно оглушен долгим пребыванием в глухом каземате, Николай 25 июня 1851 года приказал приступить к допросу Бакунина.
Подробности и форма этого допроса в точности нам до сих пор не известны. Возможно, что устных формальных допросов не было; но что узнику были поставлены (в письменной форме или иначе) какие-то определенные вопросы, на которые он должен был дать ответ, это весьма вероятно, судя по содержанию «Исповеди» и по ряду оборотов в отдельных местах, которые мы ниже будем специально отмечать. Сопоставляя эти места, можно даже составить себе довольно ясное представление о содержании и характере тех вопросов, которые по приказу Николая были заданы жандармами Бакунину. Дальше мы приблизительно наметим вероятный перечень этих вопросов.
Происхождение этого замечательного исторического документа, известного под названием «Исповеди», хотя на самом деле не имеющего никакого заголовка, было примерно таково.
Как рассказывает сам Бакунин в письме к Герцену от 8 декабря 1860г. месяца через два по его прибытии в Россию, т. е. в первой половине июля 1851 г., к нему в камеру явился граф Орлов (позже князь, Алексей Федорович, в рассматриваемое время шеф жандармов) и от имени царя потребовал от него составления записки о немецком и славянском движении, причем пояснил, что царь желает, чтобы Бакунин говорил с ним как духовный сын с духовным отцом, т. е. исповедывался, рассказывал все без утайки, дал то, что на языке жандармов называлось «откровенным» и «чистосердечным» показанием.
Что Бакунин, вообще крайне неточный в этом письме, где он единственный раз упоминает об «Исповеди», неточен и в данном случае, и что царь добивался от него не только академического рассказа о немецком и славянском движении, видно и из самого содержания «Исповеди». Это в частности показывает тот предполагаемый вопросник, который мы попытаемся набросать на основании текста этого документа. Николая I больше всего интересовал вопрос о русском революционном движении, о замыслах и связях Бакунина, о наличии в стране опасных элементов и т. п., и в первую голову он хотел получить от своего пленника ответ на эти вопросы. Отсюда и требование полной откровенности: ведь не мог же царь подозревать, чтобы Бакунин стал скрывать что-либо существенное из области немецкого или славянского движения.
Вот насчет русского дело обстояло иначе. И в этом отношении Бакунин разочаровал своего духовника: последний ничего важного от него не узнал. Правда, что ничего особенно важного и не было.
Подумав немного, Бакунин решил, что при условиях несколько свободной жизни следовало бы выдержать роль до конца, т. е. не вступать ни в какие компромиссы с врагом, но что в четырех стенах, находясь во власти жестокого деспота, не признающего никаких человеческих прав, можно слегка пренебречь формой, проще сказать — подурачить врага, а потому согласился и в течение месяца написал «в самом деле род исповеди, нечто вроде «Dichtung und Wahrheit» («Вымысел и правда», как озаглавлена автобиография Гете), в которой осторожно, но вразумительно заявил царю, что ждать от него предательства не приходится и что имен называть он не станет.