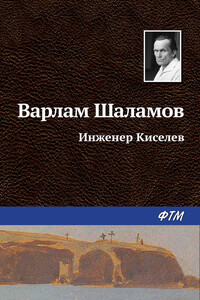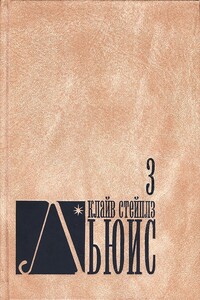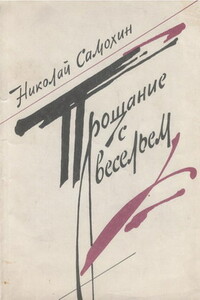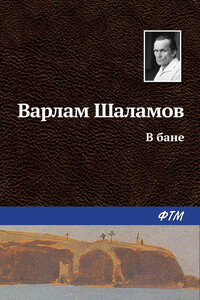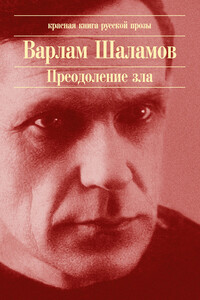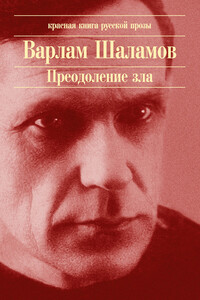Я не понял души инженера Киселева. Молодой, тридцатилетний инженер, энергичный работник, только что кончивший институт и приехавший на Дальний Север отрабатывать обязательную трехлетнюю практику. Один из немногих начальников, читавший Пушкина, Лермонтова, Некрасова – так его библиотечная карточка рассказывала. И самое главное – беспартийный, стало быть, приехавший на Дальний Север не затем, чтобы что-то проверять, в соответствии с приказами свыше. Никогда не встречавший ранее арестантов на своем жизненном пути, Киселев перещеголял всех палачей в своем палачестве.
Самолично избивая заключенных, Киселев подавал пример своим десятникам, бригадирам, конвою. После работы Киселев не мог успокоиться – ходил из барака в барак, выискивая человека, которого он мог бы безнаказанно оскорбить, ударить, избить. Таких было двести человек в распоряжении Киселева. Темная садистическая жажда убийства жила в душе Киселева и в самовластии и бесправии Дальнего Севера нашла выход, развитие, рост. Да не просто сбить с ног – таких любителей из начальников малых и больших на Колыме было много, у которых руки чесались, которые, желая душу отвести, через минуту забывали о выбитом зубе, окровавленном лице арестанта – который этот забытый начальством удар запоминал на всю жизнь. Не просто ударить, а сбить с ног и топтать, топтать полутруп своими коваными сапогами. Немало заключенных видели у своего лица железки на подошвах и каблуках киселевских сапог.
Сегодня кто лежит под сапогами Киселева, кто сидит на снегу? Зельфугаров. Это мой сосед сверху по вагонному купе поезда, идущего прямым ходом в ад, – восемнадцатилетний мальчик слабого сложения с изношенными мускулами, преждевременно изношенными. Лицо Зельфугарова залито кровью, и только по черным кустистым бровям узнаю я своего соседа: Зельфугаров турок, фальшивомонетчик. Фальшивомонетчик по 59–12 – живой – да этому не поверит ни один прокурор, ни один следователь, ведь за фальшивую монету у государства ответ один смерть. Но Зельфугаров был мальчиком шестнадцати лет, когда слушалось это дело.
– Мы делали деньги хорошие – ничем не отличить от настоящих, взволнованный воспоминаниями, шептал Зельфугаров в бараке – в утепленной палатке, где внутри брезента ставится фанерный каркас – изобретения и такие бывают. Расстреляны отец и мать, два дяди Зельфугарова, а мальчик остался жив – впрочем, он скоро умрет, порукой тому сапоги и кулаки инженера Киселева.
Я наклоняюсь над Зельфугаровым, и тот выплевывает прямо на снег перебитые свои зубы. Лицо его опухает на глазах.
– Идите, идите, Киселев увидит, рассердится, – толкает меня в спину инженер Вронский, тульский горняк, тверяк по рождению – последняя модель шахтинских процессов. Доносчик и подлец.
По узким ступенькам, вырубленным в горе, мы взбираемся на место работы. Это – «зарезки» шахты. Штольня, которую бьют по уклону, и немало уже вытащено веревкой камня – рельсы уходят куда-то далеко вглубь, – где бурят, откалывают, выдают на-гора породу.
И Вронский, и я, и Савченко, харбинский почтарь, и паровозный машинист Крюков – все мы слишком слабы, чтобы быть забойщиками, чтобы нам была оказана честь допустить к кайлу и лопате и к «усиленному» пайку, который отличается от пайка нашего, производственного, какой-то лишней кашей, кажется. Я знаю хорошо, что такое шкала лагерного питания, какое грозное содержание скрывают эти пищевые рационы поощрения, и не жалуюсь. Остальные новички – горячо обсуждают главный вопрос: какую категорию питания дадут им в следующую декаду – пайки и карточки меняются подекадно. Какую? Для усиленного пайка мы слишком слабы, мускулы наших рук и ног давно превратились в бечевки – в веревочки. Но у нас еще есть мышцы на спине, на груди, у нас есть еще кожа и кости, и мы натираем мозоли на груди, выполняя желание инженера Киселева. У всех четверых мозоли на груди и белые заплаты на наших грязных, рваных телогрейках, посаженные на грудь, как будто у всех одна и та же арестантская форма.
В штольне проложены рельсы, по рельсам на веревке, на пеньковом канате, мы спускаем вагонетку – внизу ее нагрузят, а мы вытащим вверх. Руками мы, конечно, этой вагонетки не вытащим, если бы даже все четверо тянули враз, вместе, как рвут лошади гужевых троек в Москве. В лагере каждый тянет вполсилы или в полторы силы. Дружно в лагере тянуть не умеют. Но у нас есть механизм, это тот самый механизм, который был еще в Древнем Египте и позволил построить пирамиды. Пирамиды, а не какую-нибудь шахту, шахтенку. Это – конный ворот. Только вместо лошадей здесь впрягают людей – нас, и каждый из нас упирается грудью в свое бревно, жмет, и вагонетка медленно выползает наружу. Тут, оставив ворот, мы катим вагонетку к отвалу, разгружаем ее, тащим назад, ставим на рельсы, толкаем в черное горло штольни.
Кровавые мозоли на груди у каждого, заплаты на груди у каждого – это след бревна от конного ворота, от египетского ворота.
Здесь нас ждет, подбоченившись, инженер Киселев. Следит, чтобы мы заняли свои места в этой упряжке. Докурив свою папиросу и тщательно растоптав, растерев окурок на камнях своими сапогами, Киселев уходит. И хоть мы знаем, что Киселев нарочно измельчил, растоптал свой окурок, чтобы нам не досталось и единой табачинки, ибо прораб видел воспаленные жадные глаза, арестантские ноздри, вдыхающие издали дым этой киселевской папиросы, – все же мы не можем справиться с собой и все четверо бежим к растерзанной, уничтоженной папиросе и пытаемся собрать хоть табачинку, хоть крупиночку, но, конечно, собрать хоть крошку, хоть пылинку не удается. И у всех у нас на глазах слезы, и мы возвращаемся в свои рабочие позиции – к потертым бревнам конного ворота, к рогатке-вертушке.