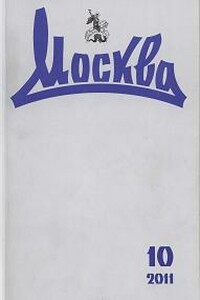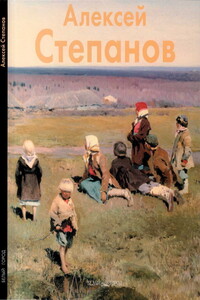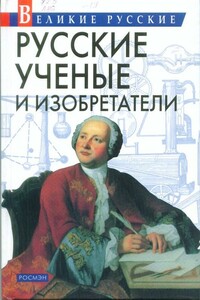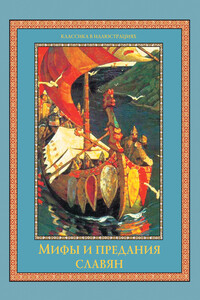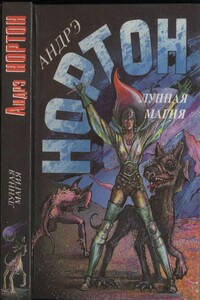Это пальто, или, как выразился обрадованный неожиданным подарком Павел Петрович, «пальтецо» я нашел за насыпью. Кто-то выбросил.
Сперва я подумал, что это труп, лежащий ничком, носом в землю. Руки раскинуты в сторону, одна подвернулась немного, плечи сгорблены… «А ноги, мол, оттяпали и отдельно где-нибудь, в мусорный бак… В багажник-то с ногами трудно упаковать…» — таков был ход первой моей мысли, основанной на обстоятельствах нашего теперешнего бытия. Я хотел сразу уйти, не подходя близко. А потом все-таки любопытство верх взяло. Огляделся я — никого поблизости. Подошел, палкой сперва в горб-то потыкал — мягко, пусто… Помнится, усмехнулся про себя — мол, даже если это и труп, то не человечий. Труп пальто, так сказать… Но ладно, шутки в сторону.
Общупал я его, обмял, карманы проверил… То есть оно, разумеется, изношено было порядочно, прожжено кое-где, запятнано, в карманах прорехи, а так носи да носи. В прежнее время такое пальто никто бы не выбросил, а еще, может быть, и сыну завещал. А нынче что? Ветер дунул, мода переменилась — и пожалуйста, хорошую, добротную вещь — на свалку.
У меня есть теплый полушубок, поэтому пальто я взял для Павла Петровича. А чтоб не нести в руках (скажут «украл!» — и словят), я надел его поверх полушубка и отправился прямиком к Павлу Петровичу.
Павел Петрович живет на самой верхотуре. Пока к нему взберешься, тем более в таком неповоротливом виде… Но я люблю слушать, как он рассказывает историю своей прошлой жизни, когда еще был женат, материально обеспечен и всем доволен.
Рассказчик он замечательный!
Несмотря на то что Павел Петрович довольно толстый и рыхлый человек, голос у него, напротив, тонкий и нервный, с какой-то звенящей, истерической нотой, которая долго еще звенит и свербит в ухе после того, как Павел Петрович задумается и замолчит. И вообще, о чем бы ни рассуждал Павел Петрович, в голосе его всегда слышатся раздражение и застарелая обида, и говорит он так, словно обращается не ко мне одному, а к целой толпе недоброжелательных и не сочувствующих ему слушателей.
Павел Петрович очень порадовался подарку и сразу же надел мое пальто. И вот мы уже сидим друг напротив друга и разговариваем. Вернее, говорит один Павел Петрович, а я просто слушаю. И сопоставляю наши судьбы. Ему повезло, он прожил большую и интересную жизнь… Я думаю об этом и начинаю задремывать в жилом тепле. Что делать, прошедшие три ночи выдались довольно промозглыми…
К сожалению, дрему трудно контролировать. Я, конечно, из уважения продолжал сидеть с открытыми глазами, делая вид, что не сплю. Но Павел Петрович прервался и разбудил меня.
Он грустно покачал головой, криво улыбнулся, вздохнул, снова улыбнулся, пошевелил губами, нахмурился, ударил ладонью по колену и опять покачал головой. Затем прищелкнул пальцами и решительно продолжил:
— Я ушел в конце концов от нее. Не выдержал. Да и кто бы не ушел, скажите на милость? Тут хоть какое терпение имей, а долго не вытянешь. А так до нее я к стишкам относился терпимо, на память знал… Да вот судите сами…
Павел Петрович, не вставая с места, вытянул вперед ногу, упер одну руку в бок, по-петушиному надул грудь, приосанился, затем уронил набок голову, выгнул бровь и торопливым речитативом пропел:
Приморили, гады, приморили.
Загубили молодость мою,
Золотые кудри поредели,
Знать, у края пропасти стою…
Получилось, честно говоря, довольно фальшиво, но Павлу Петровичу, очевидно, понравилось, потому что он полез в карман пальто, вынул тряпицу и, огорченно качая головой, промокнул свой унылый нос и уголки печальных глаз:
— Эх, как верно сказано, в самую точку! Именно, именно загубили… Вы, молодой человек, вряд ли слыхали эти строки… Это Есенина запрещенные стихи…
Лицо Павла Петровича вдруг ожесточилось, он зачем-то обернулся и прокричал в сторону приоткрытого люка, точно обращаясь к кому-то, кто в этот миг мог его подслушивать, стоя под этим люком:
— А теперь я эту поэзию ненавижу! Серебряный век, черт бы вас всех подрал! Вот так вот! Да…
Он запнулся, болезненно поморщился и, снова хлопнув себя по колену, продолжил тем же нервным, тонким голосом:
— Ладно, готовить не умела, белье грязное ворохами копила в ванной… Картошка вечно пригорала. Пусть. Я не привередливый, я бы и так жил, ничего… Женился, как говорится, терпи. Не вышло никак. Да…
Как сейчас помню последний день наш с ней… Последнюю, так сказать, каплю дегтя!..
Он шумно вздохнул, отсапнул, как лошадь, наклонил свою огромную голову. Вокруг обширной лысины дыбом стояли короткие седые волосы.
— Я на кухне рыбу ем. Купил, значит, хека… Или минтая, не помню теперь… Рыбу, одним словом. Пожарил сам, она же спалит обязательно. Продукт нежный, жалко… Пожарил, значит. Сижу ем и думаю. Что-то тогда грустные думы были, тяжелые… За квартиру полгода не плочено, пеня… Дочке ботиночки надо… Не помню, о чем конкретно я думал, но какая-то тоска меня мучила… Ем эту рыбу, вкуса не чувствую. Тут она кричит из комнаты, я аж вздрогнул. Кричит: «Паша, ты не знаешь, кто такая Геба? Есть она или это у меня явление ложной памяти? Была такая богиня у древних греков?»