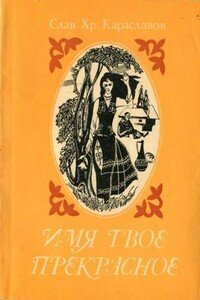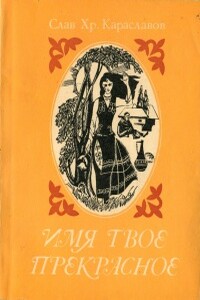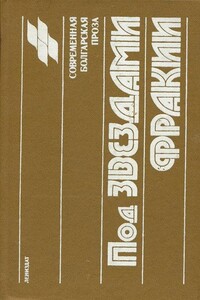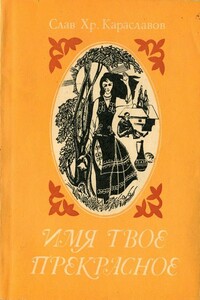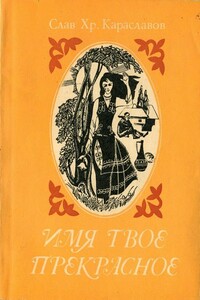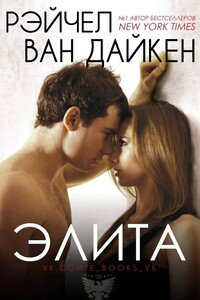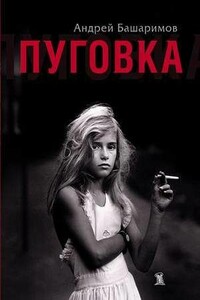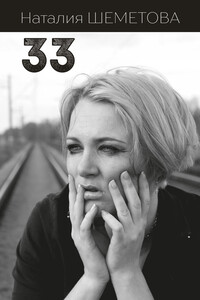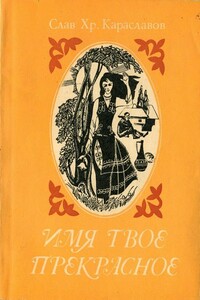Слав Христов Караславов
Имя твое прекрасное
1
С тех пор как мне рассказали трагическую историю, связанную со старым домом, меня стали преследовать звуки шагов.
Вечером напряжение делается невыносимым. Подхожу к окну, взгляд погружается в красоту зимних сумерек. Убывающий свет творит сказку из инея, веток и теней. С вершины дерева осыпается мелкий снег и, падая, увлекает за собой весь остальной, чтобы выткать серебряную мантию неведомой лесной фее. Не ее ли шаги слышатся мне в старом доме? Может быть, испугавшись света лампы, она оставила свое уединенное убежище и скачет по верхушкам деревьев, чтобы спрятаться от моего взгляда? А ветви деревьев перепутались, переплелись, будто руки страшных великанов, подпирающих небо, одетых в белые одежды лесной феи. Холм напротив напоминает собой серого волка, припавшего к земле и положившего голову на передние лапы. И хотя мир вокруг как бы заледенел в недвижной вековой тишине, я ощущаю, что деревья начинают приближаться ко мне. Они передвигаются скачками. Остановлю взгляд на одном, другие скачут, взгляну на них — трогаются третьи. Они похожи на стаю волков, готовую на клочья разорвать старый дом. Уж не фея ли науськала их? Гашу лампу. Но вместо сна — шаги. Сейчас они перекликаются со скрипом давнишней телеги, той допотопной телеги, с большими деревянными колесами, сверстницы старого дома. Откуда же она явилась в эти заснеженные горы? Долго прислушиваюсь. Затихли шаги, затих и скрип. Кривая тень падает на окно, пересекает кровать, доходит до середины комнаты. Поднимаюсь. Чертова дегтярница. Она привязана к карнизу — от нее тень. И хотя я точно вижу, что это карниз, меня не покидает ощущение, что дегтярница привязана к задку старой телеги, и это переносит меня в другое время, возрождая в памяти скрип кривых колес.
Нервы…
Ах, почему я выслушивал до конца ту историю?..
2
…Метель еще не замела буйных следов колядовавших. Всюду на белом снегу их следы. На целине хорошо виден отпечаток человека — кто‑то мерил свой рост. Другой упал руками в снег, и пальцы отпечатались, будто следы большой птицы. Разломленный рождественский каравай прочертил на снегу полукруг, рядом следы собаки — погналась за добычей, но ее отогнали то ли крики колядовавших, то ли снежки, брошенные ими. Два снежка, оставляя след, скатилась вниз и, по пути обрастая, уже крупными комьями приютились под кустом шиповника. Ушла в прошлое беззаботная коляда, оставив свои отметины. И только след человека, ведущий к селу, таит в себе что-то тревожное. Одинокий путник в эту зимнюю ночь? Но след раздваивается. Значит, шли двое, след в след, и один споткнулся? Наверное, у него на это были причины…
Девушка стоит у керосиновой коптилки н старается не думать о двух ночных посетителях. Она ведет тонкую нитку вязки и не спускает с окна взгляда. Ей так хочется, чтобы метель забила стекло снегом, пригнула к земле ветки старого ореха, засыпала кусты, запорошила следы. За сараем на тропе видны следы трех человек. Дальше от дома идут два следа, только потом они сливаются в один. Третий след — девушки — тянется от сарая. По ступенькам поднимается к старой кухне. С этой ночи не стало в кухне пестрой котомки и уменьшилось на одну буханку печеного хлеба, зато груза у тех двоих, что шли след в след, прибавилось. Девушка ведет нить, а мысли тянутся сами собой, бесконечные и тревожные. Дождется ли утра? Она встает, убирает вязку, ложится в постель. Старается уснуть, но сна нет как нет. В окно вторгается гора, залитая лунным светом, от нее веет холодом, проникающим сквозь щели старого дома. Девушка зябко ежится под тяжелым пестрым покрывалом. Когда‑то она сама ткала его, ткала полотно, и потому оно коробится, как брезент, ужасно тяжелое — под ним не согреешься. Она тогда впервые научилась ткать на деревянном станке под навесом. Мать стояла рядом и наставляла: ударь бердом, нажми ножку, переверни кросно. Девушка ткала, а мысли ее были далеко-далеко. Она думала о своих подружках, которые уехали в город учиться. А она вот осталась, ее не пустили. Отец заупрямился. Он не учился, а разве плохо устроил свою жизнь? Скотина есть, и торговлей обзавелся. Не оставит дочь голодной. И начались работы по дому, походы за дровами. На утренней заре выходили с бабушкой прочесывать лес. Жадная была старуха! Если бы хватило сил, она перетаскала бы весь лес на спине. Натрудится, бывало, еле тащит охапку. За лето исходили все вырубки около села. Все больше, больше надо! От жадности и умерла: надорвалась. Последняя ноша была такой тяжелой, что не выдержала старуха, слегла. Начала харкать кровью. Девушка оставалась дома, доглядывала за ней. В это время она познакомилась с учителем, бегала к нему за книгами. Но вскоре забросила книги и стала его избегать. Что‑то случилось с ней, но что? Девушка не могла себе этого объяснить. Как только слышала его голос, сердце ее начинало беспокойно биться, ноги подкашивались. Странная слабость сковывала ее тело. Девушка не смела поднять на него глаз. И только когда он проходил мимо, провожала его долгим взглядом, как бы стараясь запомнить, сохранить для себя. Он был высокий и стройный, с буйным русым чубом, с летящим, словно большая красная бабочка, галстуком. После каждой такой неожиданной встречи девушку тянуло к цветам, и она уходила в маленький садик за домом и подолгу поливала их. И так однажды, кто знает почему, вспомнилась ей давным-давно услышанная песня. Правда, только первые строчки, но и этого было довольно.