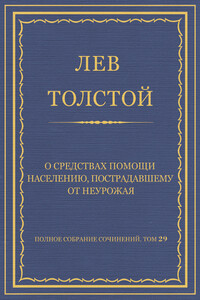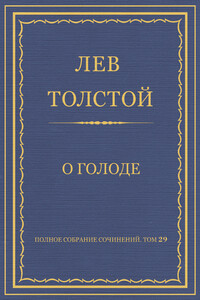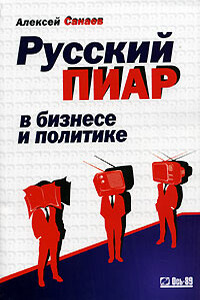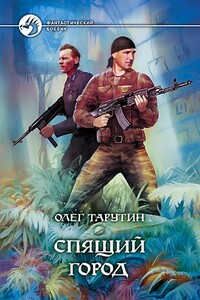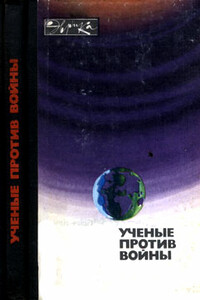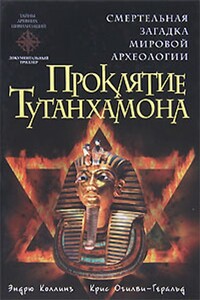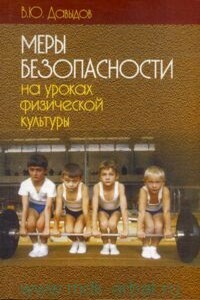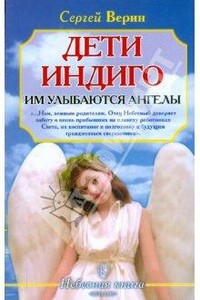1
У этой книги не совсем обычное заглавие, и я хотел бы пояснить скрытую в нем метафору — довольно, впрочем, прозрачную. Одна из нижеследующих глав посвящена книге Роберта Дарнтона «Великое кошачье побоище». Эта последняя книга, недавно переведенная на русский язык[1], — классика «новой истории культуры», лет двадцать назад бросившей вызов замешанной на марксизме социальной истории. Рассказ Дарнтона о том, как однажды в XVIII в. парижские подмастерья-книгопечатники в приливе классовой ненависти перебили хозяйских кошек, иронически «снимает» тему классовой борьбы — одну из центральных тем социальной истории. Не то, чтобы я был поборником социальной истории. Напротив, в ряде работ я пытаюсь «деконструировать» социальную историю, показать неразрешимые внутренние противоречия, приведшие ее к распаду. Однако это была великая история. Возможно, она вдохновлялась целями, которые сегодня выглядят наивно, и оперировала понятиями, вненаучное происхождение которых легко показать, но эти цели и понятия заставляли историков (естественно, не всех) думать, порой даже довольно сложно думать о довольно важных вещах.
Социальная история была прежде всего глобальной историей. Худо ли, хорошо ли, она стремилась рассказать человечеству о его судьбе. Понятно, что на столь общую тему легко наговорить вздор. Но согласимся по крайней мере, что тема эта важная и сложная.
В 1980-е гг. история распалась «на кусочки», причем неизвестно, как соотносить их между собой[2]. Казалось бы, коль скоро вселенная неисчерпаема, более мелкий объект познания не менее сложен, чем более крупный. Но на практике это оказалось не так. В осколках прошлого историки смогли открыть мало новых глубин. Трудно сказать, что тому виной — молчаливость ли источников, почти ничего не сообщающих о «самом интересном», или слабость метода, запрещающего «пониманию» слишком удаляться от «фактов», — но только микроисторику редко удается сконструировать объект познания, сопоставимый как по важности, так и по сложности с объектами макроистории.
Ничего удивительного, что и в профессиональном смысле распад истории обернулся застоем — пусть даже «лингвистический поворот» приучил историков лучше читать тексты. Новые методы обычно разрабатываются не столько для описания нового материала, сколько для решения новых проблем. Но «распавшаяся на кусочки» история с трудом формулирует новые проблемы — скорее, она идет за материалом и, претендуя на техническое совершенство, обычно работает с помощью вполне традиционных приемов.
Положение дел в смежных с историей дисциплинах, насколько я в состоянии о нем судить, не намного лучше. Распад глобальных моделей коснулся, например, социологии или антропологии не в меньшей мере, чем истории. Едва ли и могло быть иначе, поскольку речь идет об одинаковых — или почти одинаковых — моделях. Образы общества и истории родились в XVII–XVIII вв. из одних и тех же форм воображения[3], и отсюда — достаточно близкие способы конструировать объекты познания, применяемые в упомянутых науках.
Теперь можно вернуться к заглавию книги. Я пытаюсь распространить метафору Дарнтона с народных масс на социальные науки, которые занялись делом, весьма похожим на кошачье побоище. Критика социальных наук — это прежде всего изучение их интеллектуальных и социальных оснований. Но родилась она из неудовлетворенности их нынешним состоянием.
Убивать кошек не только мелко, но и бесчеловечно, противоестественно. Столь же противоестественным, калечащим мысль мне представляется дискурс социальных наук — во всяком случае, сегодняшний. Конечно, я сознаю, что сам не очень умею думать и говорить иначе, т. е. думать о более экзистенциально (или хотя бы политически) важных проблемах и говорить на более человеческом языке, но мне кажется, что всем нам, практикам социальных наук, предстоит учиться этому.
XX век был веком социальных наук[4]. Они казались гарантией того, что человечество идет правильным курсом, они же решающим образом повлияли на стиль мысли современного человека. Во второй половине столетия литература попала в зависимость от литературоведения, а искусство — от искусствознания. Социолог занял место поэта в качестве хранителя общественной морали и учителя жизни[5]. Но если применить к социальным наукам их же собственный подход, то они предстанут одной из культурных практик — в ряду других, никак не менее почтенных. Следовательно, социальные науки преходящи. Они появились на свет в силу стечения обстоятельств и предположительно со временем умрут, как умерли схоластика или алхимия, причем их смерть не станет концом света. На наших глазах умирают роман и опера — культурные практики, породившие куда более значительные свершения духа. При всей цеховой гордости Вебером и Леви-Строссом мы едва ли поставим их в один ряд с Вагнером и Достоевским. Социальные науки — это интеллектуальный эквивалент среднего класса, культурным свершениям которого, увы, установлен предел. Они ориентированы на ремесленничество, на воспроизводство среднего уровня, в этом их сила, но в этом же и слабость. Поэтому и интеллектуалы, идеологи среднего класса и демократии, едва ли могут дать больше того, что у них есть.