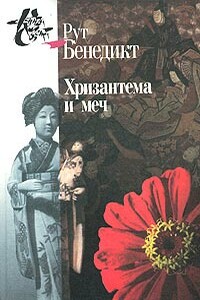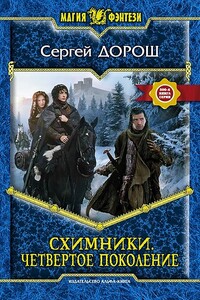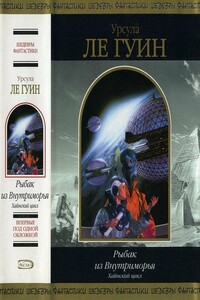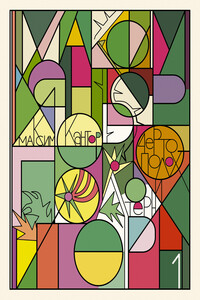Для Соединенных Штатов Япония была самым чуждым противником из числа тех, с кем им приходилось когда-либо вести большую войну. Ни в какой другой войне с крупным противником мы не оказывались перед необходимостью принимать в расчет совершенно отличные от наших обыкновения в поведении и мышлении. Подобно царской России в 1905 г., мы столкнулись с хорошо вооруженной и обученной нацией, не принадлежащей к западной культурной традиции. Принятые западными народами как факты человеческой природы условные правила ведения войны явно не признавались японцами. Из-за этого война на Тихом океане превратилась в нечто большее, чем ряд десантов на островном побережье, чем трудноразрешимая задача материально-технического обеспечения армии. Главной проблемой стала природа врага. Чтобы справиться с ним, нужно было понять поведение японцев.
Трудности были огромные. В течение семидесяти пяти лет с тех пор, как Япония открылась миру,[1] о японцах, как ни о каком другом народе мира, всегда писали с добавлением неизменного «но также». Когда глубокий наблюдатель пишет о других, кроме японцев, народах и заявляет, что они необычайно вежливы, ему вряд ли придет в голову добавить: «Но они также дерзки и высокомерны». Когда он заявляет, что народ какой-то страны крайне негибок в своем поведении, то не прибавит к этому слова: «Но он также легко адаптируется к самым необычным для него новшествам». Когда он говорит о покорности народа, то не поясняет тут же, что этот народ с трудом поддается контролю сверху. Когда он говорит о преданности и великодушии народа, то не дополняет эту мысль словами: «Но он также вероломен и недоброжелателен». Когда он говорит о подлинной храбрости народа, то не пускается тут же в рассуждения о его робости. Когда он заявляет, что в своем поведении этот народ мало озабочен мнением других о себе, то не добавляет затем, что у него воистину гипертрофированная совесть. Когда он пишет, что у этого народа в армии дисциплина роботов, то не продолжает сообщение рассказом о том, как солдаты, если им взбредет в голову, могут выйти из повиновения. Когда он пишет о народе, страстно увлеченном западной наукой, то не станет также распространяться о его глубоком консерватизме. Когда он напишет книгу о нации с народным культом эстетизма, глубоко почитающей актеров и художников и превращающей в искусство разведение хризантем, то не сопроводит ее другой, посвященной культу меча и высокому престижу воина.
Однако все эти противоречия — основа основ книг о Японии. И все они действительны. И меч, и хризантема — части этой картины. Японцы в высшей степени агрессивны и неагрессивны, воинственны и эстетичны, дерзки и вежливы, непреклонны и уступчивы, преданны и вероломны, храбры и трусливы, консервативны и восприимчивы к новому. Их крайне беспокоит, что другие думают об их поведении, но они также чувствуют себя виновными, когда другим ничего не известно об их оплошности. Их солдаты вполне дисциплинированны, но также и непослушны.
Когда для Америки стало очень важно понимать Японию, отмахиваться от этих, как и от многих других, столь же явных, противоречий было уже невозможно. Перед нами один за другим вставали острые вопросы: Что же японцы будут делать? Возможна ли их капитуляция без нашего вторжения? Следует ли нам бомбить дворец Императора? Что мы можем ожидать от японских военнопленных? О чем мы должны рассказывать в обращенной к войскам и жителям Японии пропаганде ради спасения жизни многих американцев и умаления готовности японцев бороться до последнего солдата? Среди тех, кто хорошо знал японцев, существовали большие разногласия. Когда наступит мир, не окажется ли, что для поддержания порядка среди японцев потребуется введение бессрочного военного положения? Должна ли наша армия готовиться к противостоянию отчаянных и бескомпромиссных людей в каждой горной крепости Японии? Прежде чем появится возможность установления международного мира, не должна ли в Японии произойти революция, подобная французской или русской? Кто ее возглавит? В наших суждениях по этим вопросам было много разногласий.
В июне 1944 г. мне поручили заняться изучением Японии.[2] Меня просили использовать все технические возможности моей науки — культурной антропологии — для выяснения того, что представляют собой японцы. В начале лета этого года только стали прорисовываться подлинные масштабы наших крупных наступательных операций против Японии. В Соединенных Штатах люди все еще считали, что война с Японией продлится три года, возможно десять лет, а может, и больше. В Японии же говорили о том, что она протянется сто лет. Американцы одержали локальные победы, заявляли японцы, но Новая Гвинея и Соломоновы острова[3] находятся за тысячу миль от наших островов. Японские официальные сообщения не содержали никакой информации о своих поражениях на море, и японцы все еще считали себя победителями.
Однако в июне ситуация начала меняться.[4] В Европе был открыт второй фронт, и таким образом реализовались военные приоритеты Верховного командования последних двух с половиной лет, связанные с европейским театром военных действий. Окончание войны с Германией было не за горами. А на Тихом океане наши войска высадились на острове Сайпан,