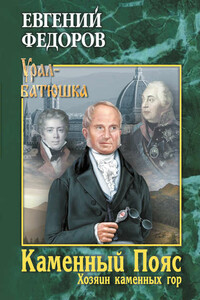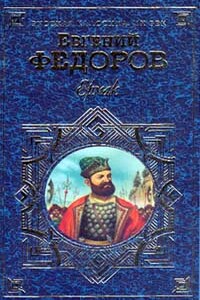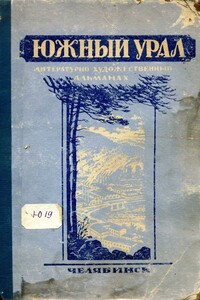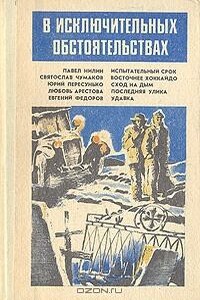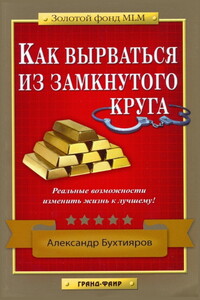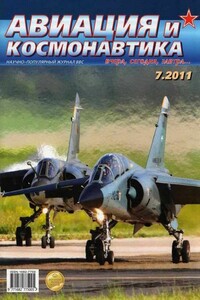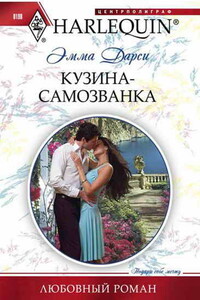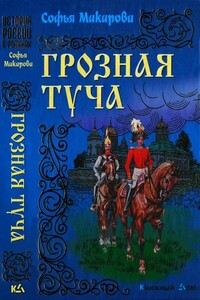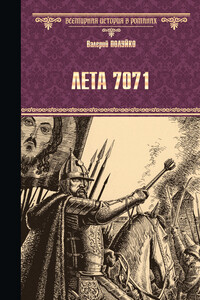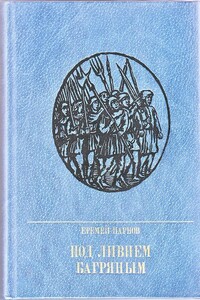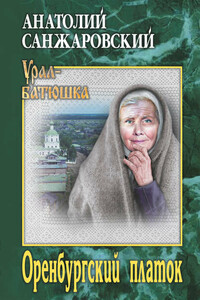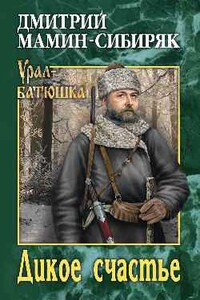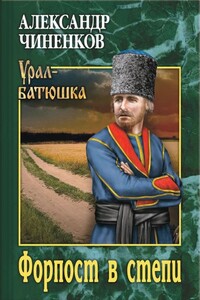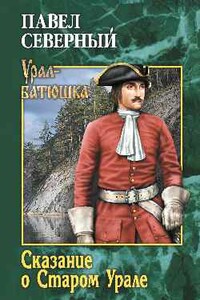В Нижнем Тагиле отстроился кабак, лавки, магазеи. Демидовская контора в долг отпускала работным мясо, хлеб, крупу, деготь, рукавицы, грубую ткань. При выдаче заработка управитель удерживал долги.
В субботу к заводской конторе сошлись работные, женки их, и Любимов вел с ними расчет. Спесивый, тяжелой походкой вошел он в расчетную, взобрался на табурет и зажег лампаду перед потемневшей и облупившейся от времени иконой Спаса Нерукотворного. Поддерживаемый под руки повытчиками, он слез, опустился на колени перед образом и с умилением стал молиться:
— Господи, пошли меж нами мир и согласие! Иисусе Христе, подай нам!
Позади толпились чающие расплаты; истомленные бородатые работные и женки с испитыми лицами. Управитель обернулся и строго прикрикнул на них:
— Становитесь, христиане, господу богу помолимся и приступим к святой получке!
Все покорно стали в ряд и молились вместе с управителем. Вперив большие, навыкате глаза в тусклый лик Спаса, Любимов со слезой молил:
— И прости прегрешения наши вольные и невольные…
Помолившись, он утер вспотевший лоб и неторопливо сел за конторку:
— Ну, подходи, народ крещеный, получай за труды праведные пятаки, алтыны да копеечки! Эй, Сидор, бери свое! Рукавицы брал? Хлеб получал? Постное масло выдавали? Два рубля должен! Так, так! Ишь ты, ни полушки не приходится. Не обессудь, брат, можешь идти! Степан, где ты? — обратился он к рудокопу. — Подходи сюда! Э, ты, братец, рукавицы брал, гляди и полушубок сдогадался прихватить. Так, так… Ха-ха, тебе братец, приходится целковый! Ишь ты, целковый! — усмехнулся в бороду управитель.
— Помилуй, Александр Акинфиевич, да я полушубка вовсе не брал! — взмолился Степан.
— Как не брал? — багровея, вскрикнул Любимов. — А это что? Книга живота и смерти! — Он сердито застучал костяшками пальцев по толстой шнуровой книге. — В ней записано: брал Степан Андронов полушубок, а раз записано, выходит так, а не инако. Уходи, уходи, братец! Не брал? Ишь ты! Знаю я вас. Получил рубль целковый, ну и ступай с богом! Захарка, ты тут? Подходи!
К заводской конторке подошел весь перемазанный рудой, с тяжелыми корявыми руками коногон. Управитель внимательно посмотрел на его обветренное лицо.
— Это ты, Захарка? В кабаке три штофа зелена вина брал? Брал! Скащиваю с тебя…
— Александр Акинфиевич, да побойся ты бога. В кабаке я и не был, не до того: семье еле-еле на хлеб хватает…
— Не перебивай, суетная душа. Я-то бога боюсь и чту! Что у меня, креста на шее нет? Зря в грех вводишь! — гневно закричал Любимов. — Повытчик, погляди, что тут записано?
Конторщик сломя голову бросился на зов управителя и изумленно заглянул в книгу.
— Верно! Так и записано: за коногоном Захаркой три штофа! — угодливо подтвердил он.
— Ну вот видишь! — удовлетворенно вздохнул Любимов и насупился. — Проваливай, червивая душа! Андрейка, сюда!
Подошел коренастый мужичонка-рудокопщик со взъерошенной бородой. Глаза управителя смеялись.
— Ты гляди, сколько заработал. Три рубля приходится, а ну-ка, вихрь тебя забери, получай рубль. Все равно пропьешь. Давай не давай тебе, одинаков будешь! На что тебе три целковых? Непременно сопьешься. Нет, я не такой человек, чтобы не порадеть о твоей душе, два рубля отложим на черный день… Получил? Ну, иди, иди с богом, нечего болтаться перед глазами.
— Родной мой, да за что обидел? — не отступал от конторки рудокопщик. — Отдай мне мое, женке с ребятами надо!
— Ну вот еще чего вздумал! — ухмыльнулся управитель. — Авось твоя женка и ребятенки с голоду не подохнут. Господь бог не оставит их своей милостью. Иди! Эй ты, Иван! — крикнул он повытчику. — Налей-ка Андрейке «петушок» водки, пусть помнит доброго хозяина. Ну, иди, иди, алчные глаза, там и опрокинешь стакашек зелена вина…
В час-два разобрался Александр Акинфиевич со всеми работными и, закрыв железный сундук, снова стал перед образом и помолился:
— Благодарю тебя, господи, что не оставил без милости твоей. Хлеб наш насущный даждь нам днесь…
Сотворив молитву, он надел шляпу и ушел из конторы вполне удовлетворенный собой.
Управитель старался не замечать недовольства рабочих.
«Что ж, — рассуждал он, — человек вечно недоволен. Дай много — захочет большего! Жаден! Вот и смирись на малом!»
Он упорно соблюдал строгости на заводе. Правда, держался он всегда ласково, льстиво, не грубил, но и приветливое слово в его устах звучало предостерегающе.
— Распусти вожжи — тогда, как обезумевшие кони, разнесут! — говорил он повытчикам. — Народ любит, чтобы его в узде держали.
Но как ни старался Любимов уйти от неприятностей, они следом за ним ходили. После того как триста жалобщиков из Нижнего Тагила добились относительной свободы — стали государственными крестьянами, на заводе участились попытки «отыскания вольности».
Среди тагильских крепостных значился Климентий Константинович Ушков, весьма зажиточный человек; на заводе он сам не работал, а платил Демидову оброк. Вся конница, которая возила руду от горы Высокой, принадлежала Ушкову, и волей-неволей с ним приходилось считаться. Второй из той же породы — Ведерников. Договорились они вдвоем подать прошение на высочайшее имя о восстановлении их в свободном состоянии. Оба считали, что Демидовы незаконно зачислили их в крепостные.