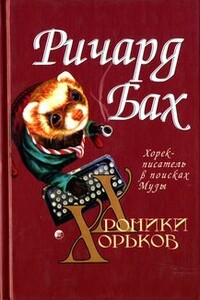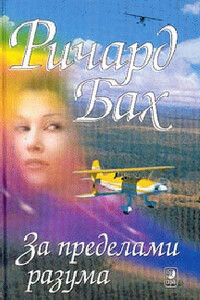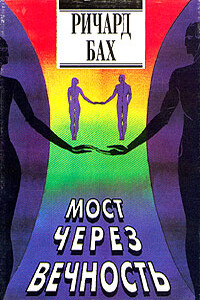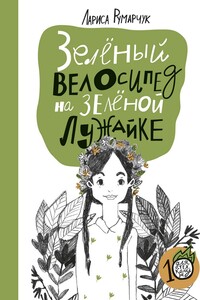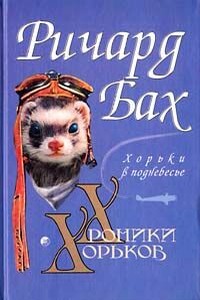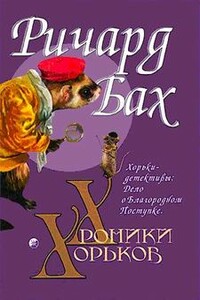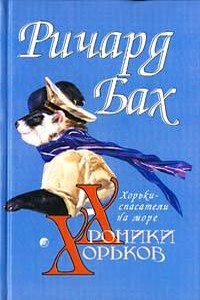Хорек Баджирон задернул шторы, выключил настенную лампу и набросил себе на шею белый шелковый шарф. Его Мансарда погрузилась в полумрак.
«Что же тут не так? — размышлял он. — Может, вся беда в самом ритуале?»
Пора за дело. Он напрягся и подобрался, ушки его зашевелились, то становясь торчком, то опадая, словно под тяжестью низкого скошенного потолка. Он снял пишущую машинку со стола и поставил ее на пол. Достал из стенного шкафа большую зеленую промокашку, ларчик красного дерева и старинную керосиновую лампу. Ларчик он бережно установил на дальнем конце стола, промокательную бумагу расстелил у переднего края, стык в стык с обрезом столешницы, а лампу разместил рядом с промокашкой.
Он был красавец-хорек: золотистая шерстка, постепенно темнеющая к кончику хвоста, чернильно-черному. Резко очерченная вокруг глаз-угольков перевернутая буква «М» — другие звери находили ее неотразимой.
«Если вся беда — в моем ритуале, — думал он, — то что же делать? Может, он работает только потому, что я в него верю? А что будет, если я перестану верить?»
Хорек-писатель чиркнул спичкой и поднес огонек к фитилю. Лампа зажигалась только по таким случаям, и никогда больше. Разгорелось и выровнялось пламя цвета старинного медного ключа; на блестящем серебре заиграли нежные блики.
Он приставил стул к столу — точь-в-точь как положено — и сел. Все должно быть точно таким же, как в тот день, когда он написал первую фразу. Именно так все и было.
Он выдвинул ящичек стола, извлек крохотную чернильницу с фиолетовыми чернилами и поставил ее на стол — на то самое место. Он вынул пробку, аккуратно положил ее рядом с чернильницей и задвинул ящичек.
Из второго ящичка он достал гусиное перо с чистым, остро заточенным кончиком. Перо он аккуратно уложил справа от чернильницы и пробки.
Вот и все. Он удовлетворенно кивнул. Все в порядке — если не обращать внимания на этот ужас, с каждым мгновением растущий в его душе.
Он потер ларчик ребром лапы, наводя лоск на драгоценную древесину, и медленно откинул крышку. Коснулся своей едва начатой рукописи, и сердце его на мгновение встрепенулось.
ХОРЕК БАДЖИРОН
ТАМ, ГДЕ СТУПИЛА ЛАПА ХОРЬКА
Баджирон помнил все наизусть, слово в слово. И все же он еще раз взял свою книгу и перечел:
«Граф Урбен де Ротскит стоял на задних лапках на башне своего замка у самого края и смотрел, как розовоусая заря приподнимает кончиком носа темный полог ночи. Как печально!
И вот...»
На этом рукопись обрывалась.
Автор ее вздохнул. Он снова втянулся в процесс творения.
«Да, напряжение создается замечательно», — подумал он. И все-таки что-то неладно с этим романом, от которого всему миру хоречьей литературы предстояло встать на дыбы.
Что «печально»? Печально ли было графу Урбену — что и подразумевал писатель? Или достойно сожаления уже само то, что он стоял на башне своего замка, — чего писатель в виду вовсе не имел?
Стоило ли писать «стоял на задних лапах»? В конце концов, на чем же еще было стоять его герою?
Не таится ли в словах «у самого края» намек на то, что Ротскит, может быть, собирается прыгнуть вниз? Ну уж нет! Его граф — не самоубийца.
Образ «розовоусой зари» казался таким свежим в тот миг, когда он запечатлел его на бумаге! А «темный полог ночи» ему просто нравился. Это было хорошо.
Баджирон обмакнул кончик пера в чернила и поднес его к бумаге. Настало время закончить фразу.
Он снова вздохнул в ожидании удивительного приключения, которое должно последовать за таким хорошим началом — «и вот...».
Вывел на бумаге: «заря...» — и остановился. Он и не представлял, каким окажется следующее слово.