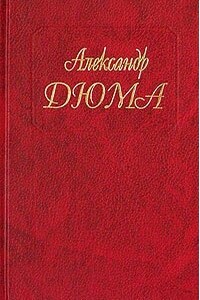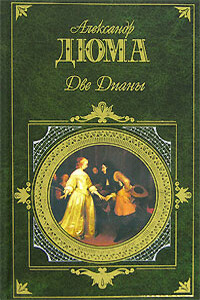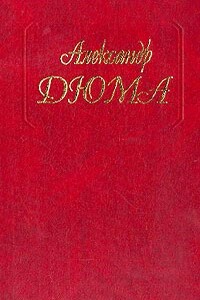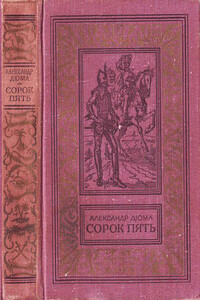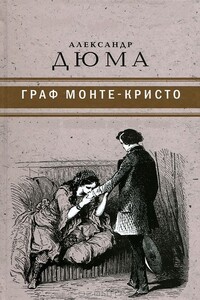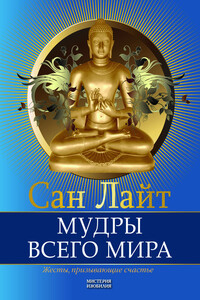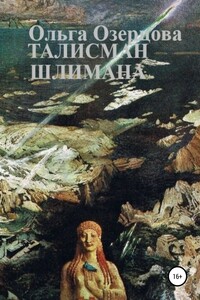Сколь же необычна история, дорогой читатель, которую я собираюсь вам рассказать или, вернее, которая будет вам рассказана.
Она написана человеком, ничего, кроме этой истории, не написавшим. Это страницы его жизни, или, точнее говоря, это вся его жизнь.
Жизнь человека измеряется не количеством прожитых лет, а минутами, когда его сердце билось учащенно.
Так, иной старец, почивший в восемьдесят лет, в действительности жил всего лишь год, месяц или даже день.
Жить — это значит или быть счастливым, или страдать.
Попробуйте перелистать перед человеком, лежащим на смертном одре, дни его жизни — он узнает лишь те, что принесли ему смех на уста или наполнили слезами его глаза. Другие же покажутся ему тусклыми, окутанными туманом и неприметными; он даже не сможет сказать, составляют ли эти дни часть его жизни или относятся к чужой судьбе. Он лишь израсходовал их, а отнюдь не прожил.
Дольше всех живет тот, на чью долю выпало больше всего испытаний.
* * *
У меня был друг.
Вам известно, какой широкий смысл придают слову «друг».
В нашем условном языке «друг» даже не всегда означает «приятель» или «товарищ». Нередко другом называют обычного знакомого.
В данном случае, если вам угодно, слово «друг» будет относиться не к приятелю, не к товарищу, а просто к приятному знакомому.
Этого друга звали, да и зовут, Макс де Вилье.
Я познакомился с Максом во время охоты в Компьенском парке, в ту пору, когда герцог Орлеанский командовал военным лагерем.
Это произошло в 1836 году — я писал тогда «Калигулу» в Сен-Корнее. Макс, школьный товарищ герцога Орлеанского, был лет на десять моложе меня.
Этот хорошо воспитанный светский человек лет двадцати пяти-двадцати шести, отличавшийся прекрасными манерами, был джентльмен до мозга костей. (Я позаимствовал у англичан данное понятие, отсутствующее в нашем языке, чтобы лучше выразить свою мысль.)
Макс был небогат, но жил в достатке; не блистал красотой, но был недурен собой; не будучи ученым, много знал; наконец, не учившись на живописца, был художником и мог невероятно быстро и удачно воспроизвести контуры лица или набросать пейзаж.
Он обожал путешествовать: побывал в Англии, Германии, Италии, Греции и Константинополе.
Мы очень нравились друг другу и, когда охотились у герцога Орлеанского (это было раз пять-шесть), всегда располагались один подле другого.
То же самое происходило за ужином: будучи вправе рассаживаться по своему усмотрению, мы переглядывались, близко сдвигали свои стулья и на протяжении всей трапезы разговаривали не умолкая.
Мой друг принадлежал к той редкой породе людей, которые умны, но не придают этому значения.
Наши близкие отношения меня очень устраивали — и на охоте, поскольку он был осторожен, и за столом, поскольку он был остроумен.
Я думаю, что и Макс очень любил меня.
К тому же у нас с ним было странное сходство: мы оба не играли в азартные игры, не курили и пили только воду.
Он часто говорил мне:
— Если вы когда-нибудь соберетесь путешествовать, известите меня: мы поедем вместе.
* * *
В 1838 году я отправился в Италию, и мы с Максом потеряли друг друга из виду.
В 1842 году, находясь во Флоренции, я узнал о смерти герцога Орлеанского. Я вернулся на почтовых, успел на панихиду в соборе Парижской Богоматери и принял участие в похоронной процессии в Дрё.
Первым, кого я увидел в церкви, был Макс.
Он показал мне жестом, что рядом с ним, на поднимающихся уступами скамейках, есть свободное место.
Я поднялся к другу. Мы обнялись со слезами на глазах и молча, держась за руки, сели рядом.
Было ясно, что мы оба думаем об одном — о той поре, когда вот так же сидели бок о бок за столом бедного принца, как теперь сидим в церкви, одетой в траур.
Во время службы мы перекинулись лишь парой фраз:
— Вы поедете в Дрё, не так ли?
— Да.
— Мы поедем туда вместе.
— Благодарю.
Мы отправились в Дрё и последними отошли от гроба покойного.
Эта привязанность, которую мы с Максом почти в равной мере питали к третьему лицу — не скажу к принцу, ибо мы были чужды честолюбия и относились к герцогу Орлеанскому не как к принцу, — эта привязанность скрепила узы нашей дружбы: должно быть, мы перенесли друг на друга ту часть расположения, в которой больше не нуждался именитый усопший.
Мы вместе вернулись в Париж, и, прощаясь, Макс сказал мне во второй или третий раз:
— Если вы когда-нибудь соберетесь путешествовать, напишите мне.
— Но где же вас найти? — спросил я.
— Здесь всегда будут знать, где я нахожусь, — ответил Макс. И он дал мне адрес своей матери.
* * *
В 1846 году, то есть десять лет спустя после того, как мы с Максом впервые увиделись, я решился отправиться в Испанию и в Африку. Я написал Максу:
«Хотите поехать со мной? Я уезжаю.
А. Д.»
Письмо я отправил по указанному адресу.
Через день пришел такой ответ:
«Невозможно, дружище: моя матушка умирает.
Молитесь за нее!
Макс».
Я уехал один. Путешествие продолжалось полгода.
По возвращении мне передали все письма, полученные во время моего отсутствия.
Не читая, я бросил в огонь те из них, что были написаны незнакомым мне почерком.
Среди тех, что были написаны знакомым почерком, было письмо Макса.