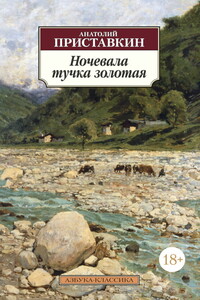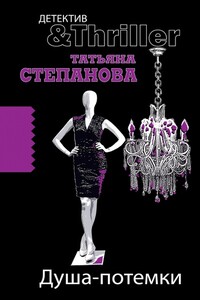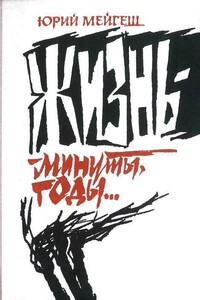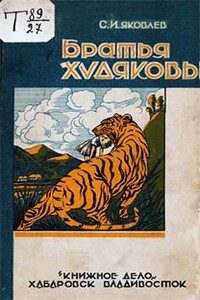Везде люди живут.
В душных и суетливых городах с их бесконечными очередями, на железнодорожных узлах, громких от мегафонного крика, в отрезанных бездорожьем полупустых деревнях, в глухих таежных леспромхозах, в степи, в наскоро устроенных вагончиках, в брезентовых домиках при стройке, на четыре семьи палатка, в охотничьей черной избушке, на плавучей брамвахте... Везде, где возможно и где кажется невозможно, живет человек и везде приспосабливается.
А то вдруг непланово, непредвиденно посреди тайги или на реке, на болоте, все равно где-нибудь, где начинается крупное дело, пойдет лепиться время-ночка к времяночке, одна хлипче другой, дунь — и улетит, но такие вечные, в общем, историческом, нашем процессе, да и просто сами по себе не отдельно, а вместе, они прочней крепостей иных. Пробиваются тут и там через какое хошь бездорожье, безводье, безмагазинье, и живут люди, довольствуются тем немногим, что есть, вот что чудно, и корешки пускают, и детей родят, вцепившись намертво в свое место, как дерево на скале, где не за что вроде и держаться.
Ничего они не требуют, не просят, не ждут, никому они не мешают, лишь бы не мешали им. Как мало, господи, им надо!
Так дай им, дай, и ты увидишь, на что они способны, каковы они, и что могут, и что хотят в этой жизни.
Поздней осенью в середине дня, это случилось года за два до наших событий, с рейсового «Икаруса», ходящего от железнодорожной станции до Зяба, сошел молодой мужчина. Был он одет немного пестро: в спортивные ботинки и джинсы, голубую нейлоновую куртку и пыжиковую шапку. В руках небольшой, тоже голубенький, чемоданчик на молнии.
Дул сильный ветер, бич здешних мест, порывистый, с брызгами дождя. Люди не автостанции с узлами, с сетками, с чемоданами, все приезжая рабочая публика, жались к единственному стоящему посреди асфальтированной площадки павильончику, ждали городского автобуса.
Мужчина, не обращая внимания на ветер и на дождь, не прячась и как бы вовсе не замечая их, поставил чемодан между ног и так остался стоять один, там, где сошел. Как ни странно, городской автобус подошел довольно быстро. Мужчина забрался одним из последних, не толкаясь и не суетясь, протянул кондукторше через головы пятак и сказал: «В кадры». И кондукторша не удивилась, распознав в приезжем человека бывалого, коротко отвечала, отдавая билетик, что кадры там же, где управление строительства, три остановки отсюда.
Но в кадры человек сразу не пошел. Потолкался в коридорчике среди приезжей публики, большинство моложе его, прочитал внимательно многочисленные приказы и объявления на стене: «Наши первые маяки», набор в секции, туристские поездки за границу, «Тревога» (не подвезли раствор по вине какого-то Грищенко) и так далее — зашел в ближайшую столовку. Здесь, над порцией макарон с котлетой (странная котлета — «рыбно-мясная»), он опять вслушивался в разноречивые толки о работе, об устройстве жилья, осторожненько раз-другой спросил о заработках, о подрядных организациях, о том, где и как дают жилье.
Выяснилось, что строители, как он и предполагал, нужны везде: людей не хватает. И в Жилстрое нужны, в Спецмонтаже, и в Гидроспецстрое и так далее. В отделе кадров документы смотрит комиссия, проверяют серьезно, и особенно придираются к тем, кто уволился конфликтно, или по пьянству, или вернулся из мест заключения. Последним, считай, сразу от ворот поворот, потому что город будущего должен быть чист от всякого хулиганья. Там же в кадрах, в случае благоприятного отношения, дают листок для переговоров: можно походить по организациям, посмотреть, выбрать то, что любо, но не больше двух дней. На эти два дня поселяют в общежитии, а потом, выбрал или не выбрал, катись на все четыре стороны и уступи жилье другим.
Все выведав, Григорий Шохов зашел в туалет и привел себя в порядок. Причесался, куртку расстегнул так, чтобы видны были сорочка и галстук, а ботинки почистил носовым платком, смочив в воде. После такой подготовки, раз и другой взглянув на расстоянии в зеркало и потрогав подбородок, решительно направился к двери в кадры, где толпился народ и даже выстроилась маленькая очередь.
Через пять минут Шохов энергичным шагом входил в просторную комнату, служившую, по-видимому, в другое время залом, за длинным столом, прямо как на экзаменах, сидели люди и смотрели на него. В самом центре — женщина, похожая, как ему показалось, на учительницу. С женщинами, особенно молодыми, Шохов умел находить общий язык. Он решительно направился прямо к ней, но его перехватил мужчина, чернявый, невысокий, с кавказским акцентом. Он предложил сесть напротив и показать документы. Очень быстро их просмотрел, повторяя вслух:
— КамАЗ... А до этого что? Усть-Илим, Усолье, Пермь...— И вдруг спросил, поднимая голову: — А почему с КамАЗа-то уволились, Григорий... Афанасьич? Пили много?
— Не пью вообще,— ответил Шохов, нисколько не обижаясь на такой тон, и встречно, невинно посмотрел в глаза чернявого.
— А сюда надолго? Или дальше побежите?
Вопрос был чисто риторический, оба — и спрашивающий, и отвечающий — понимали это.
Шохов знал, что говорят обычно в таких случаях и какого ответа от него ждут. Но показалось более уважительным для себя промолчать. Ведь все равно никаким заверениям не поверят. А молчание даже могут счесть за серьезность характера.