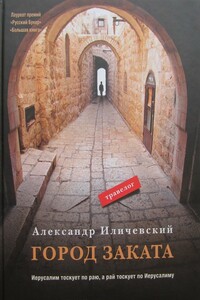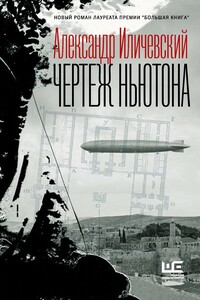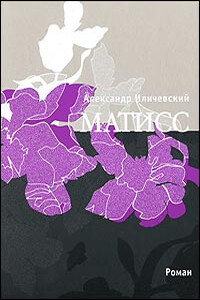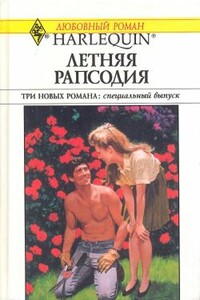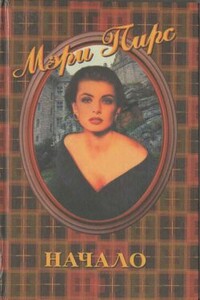Травелог — жанр заведомо неточный, и в этом его преимущество и недостаток. Недостаток — в известном приближении наблюдений, суть которого выражается пословицей «Гляжу в книгу — вижу фигу». Преимущество — в остранении, с каким, например, Наташа Ростова, ничего не понимая в том, что происходит на сцене театра, видела главное: бутафорскую луну, появление которой должно было определить ход дальнейшего развития романной вселенной, а именно — стать причиной того, что она ответит на ухаживания Курагина. Вот на такое детское восприятие действительности, которое позволит заглянуть в суть иного мира, только и может рассчитывать путешественник, отправляющийся в места, где все вывески на улицах и этикетки на товарах недоступны его восприятию.
Мой любимый пример таких странностей травелога — путешествие Льюиса Кэрролла по Европе и России. В этих заметках, кроме его особенной очарованности маленькими девочками (князь Голицын так и не понял, зачем английский писатель страстно возжелал обладать фотографией его дочери в полный рост), можно найти и примеры меткой экспрессии. Например, Кэрролл описывает посещение берлинской синагоги, и это читается как описание полета на инопланетном корабле; среди прочего он принимает золотую вышивку на талите за филактерии. Но в то же время отмечает, что прогулки по Петербургу длиной меньше пятнадцати миль — бессмысленны, ибо расстояния здесь огромны, и кажется, что идешь по городу, построенному великанами для великанов. Москва Кэрролла — город белых и зеленых кровель, золоченых куполов и мостовых, исковерканных непреодолимыми ухабами; город извозчиков, требующих, чтобы им надбавили треть, «потому как сегодня Императрица — именинница». Не менее роскошно описание автором «Алисы» чудес Нижегородской ярмарки и принимавших в ней участие — помимо персов и китайцев, инопланетяне с болезненным цветом лица в развевающихся пестрых одеждах; кто это был, мы никогда не узнаем, зато запомним сравнение вопля муэдзина в татарской мечети с криком феи-плакальщицы, пророчащей беду.
Благодаря необъятности и многослойности ландшафтно-исторического содержания Иерусалима, куда я направляюсь, любой оказавшийся в нем путешественник обречен на остранение, на принципиальное непопадание по клавишам при попытке извлечь из своей памяти задетые перемещением в пространстве грани. Однако Телониус Монк, клоунски игравший растопыренными негнущимися пальцами, добивался той виртуозной сбивчивости, той «экспрессивной импрессии», которая порой оказывается точней любых миметических описаний классицизма. Впрочем, для этого надо быть Телониусом Монком.
Как известно, театр начинается с парковки. Страна — с очереди на регистрацию рейса. «В любой толпе пассажиров, как правило, есть еврей с женой и детьми; примкни к его хороводу», — писал Бродский в «Приглашении к путешествию». И в самом деле, сколько раз проверено при перелетах во всех направлениях: нет способа лучше опознать свой рейс, чем заметить широкополую шляпу и пейсы под ней.
В очереди к стойке El Al отдельный хвост составляют паломники. Аккуратный молодой батюшка с протестантской бородкой, как у Троцкого (поветрие зарубежного отдела РПЦ, стремящегося к цивилизации перед лицом заграницы), и огромным золотым крестом на толстенной, но изящной, как дверная цепочка в домах нуворишей, золотой цепи (византийская привычка — принимать роскошь за красоту). Белоснежный воротничок, который ему поправляет какая-то женщина, скорее всего, мать; она отходит и с нескрываемым удовольствием издали наблюдает за своим подопечным: такой молодой — и такой хороший чин, впереди большая карьера. В рассказе Чехова «Архиерей» к его преосвященству приехала мать, которая робеет его и которую неохотно к нему пускают… И все-таки молодой батюшка чересчур чинный, чересчур велик крест и непомерна цепь.
В Домодедово огромная толпа, как на вокзалах времен Гражданской войны, — перед двумя работающими будками пограничного контроля. Стою и думаю примерно так: «Биполярность России: Троица и Тройка. Рублев и Гоголь. Молимся и воруем. Чехов писал, что для русского человека Бог либо есть, либо Его нету; просвещенной середины не добиться».
Парень из секыорити зовет меня к столику, а сам куда-то пропадает. Я оглядываюсь. Тут он возникает, как из-под земли.
— Кого ищете в толпе? — берет он меня на понт.
— Вас.
Он улыбается, но дальше следует инструкции и суровеет лицом.
— Кого-то здесь в очереди знаете? Зачем оглядывались?
Понемногу пришлось рассказать этому добросовестному парню все о своей жизни, про фонд «Ави Хай», про журнал «Лехаим», про издательство «Книжники», про то, как моя жена помогала мне паковать чемодан, и о чем я собираюсь писать в Иерусалиме. Так что, я подумал, в конце концов этот парень полетит со мной — так мы с ним подружились. Два его начальника, в иной униформе, в это время взглядом сверлили толпу, сурово вглядываясь в каждого. И я вспомнил, как двадцать лет назад подплывал к Хайфе на пароме; в море стояла свежая волна, затихавшая в бухте; всех пассажиров согнали к борту, чтобы служба безопасности, прибывшая из порта на катере, могла нас видеть. Сейчас в аэропорту я чувствовал на себе точно такие же проницательные взгляды, как с той лодки, совершившей два-три круга вокруг парома. Многоуровневый контроль — внешний вид, поведение, бэкграунд и т. д. — залог любой безопасности. Выходя из дома, вы проверяете — выключен ли газ, вода и т. д. — и не требуете от самого себя леворадикальной свободы беспечности и халатности.