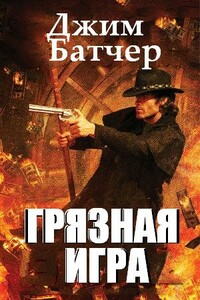Лет двадцать назад, в ранней юности, я, как и многие керченские мальчишки, промышлял рапанами. Рапаны — это такие морские раковины-хищники. Питаются они моллюсками: устрицами и мидиями. Говорят, рапан завезли наши суда из Средиземного моря с другими ракушками, которыми со временем обрастает подводная часть судового корпуса. Рапаны эти для народного хозяйства оказались настоящим бедствием: быстро расплодились в благодатных водах Черного моря, набросились на устричные колонии, а тех у черноморских кавказских берегов всего и было не то две, не то три, и за несколько лет рапаны сожрали устриц подчистую. После устриц они принялись за мидий. В ту пору недалеко от ресторана "Керчь" примелькался плакат "Сто блюд из мидий!" Тогда мы еще не осушили кубанские плавни под рисовые плантации, не загадили черноморскую воду и в ресторане можно было отведать не только осетринки, но и черноморской кефали и скумбрии, а на базаре десяток бычков-ратанов, бычищ, ей-богу, стоил двадцать копеек, сотня мидий — полтинник, а камбалу в стол шириной можно было купить за пятерку прямо прыгающую на прилавке, и никто за это не посадил бы вас в тюрьму. А барабуля, а сарган, а керченский залом, хотя мне больше нравился пузанок. Грабим мы себя, грабим.
Я рассказываю про обилие рыбы два десятка лет назад. А как рассказывали и о чем старики!
Да… Так вот, плов из мидий делали тогда разве что обрусевшие греки да итальянцы: вообще старые крымчаки. А много ли их осталось после войны-то? Говорят, когда наши во второй и окончательный раз освободили Керчь, живого мирного населения насчитали девяносто восемь человек. Это по тем понятиям живого: раз дышат, значит, живут. А по нашим сытым временам таких людей и полуживыми-то стыдно было бы назвать. Между прочим, среди этих девяноста восьми человек дышала и моя будущая, тогда юная теща. Ох, судьба, судьба! По многолетним наблюдениям над собой я пришел к выводу, что человек я, в общем-то, незлой. Но, ей-богу, если бы после освобождения Керчи наши солдаты извлекли из подвалов не девяносто восемь перепуганных жителей, а девяносто семь, пожалуй, сердце мое не сжалось бы от сострадания. А может, даже и возрадовалось бы.
Так вот, говорю я, промышляли мы тогда рапанами.
К середине шестидесятых страна вроде вовсе оправилась от войны: у стройбанков денежки завелись, подросло послевоенное поколение, стало кому заменять баб на мужских работах, хотя, говоря честно, наша неразумная политика с распределением рабочей силы в конце концов и приведет нас к гибели. Власть рабочих, само собой, прежде всего позаботилась, чтобы отныне и присно и во веки веков всем хватало работы. Для рабочего человека работа — это все: уважение жены, мясо в борще, любовь ближних, обутые-одетые дети, крыша без дыр над головой… Это так мыслилось, за это в конечном счете шли умирать на баррикады. А как получилось? Власть-то взяли, да не подумали, что власть — это прежде всего сила. А сила — это прежде всего производительность труда, не важно, что производится: каменные топоры, мечи, хлеб, пушки, губная помада, лазеры. А производительность труда — это прежде всего конкуренция. А конкуренция и опасение потерять работу невозможны без… Впрочем, я не об этом. Тогда я ничего этого еще не знал. Это сейчас я все знаю: два института закончил, с женой разошелся — тоже опыт немалый. С женой я разошелся потому, что я ей в конце концов осточертел тем, что все знаю. Поводом для ее ухода послужил вот какой случай. Купила она себе заграничные туфли и поставила в спальне на шифоньер: год любовалась. Как-то звонит у двери цыганка: грязная, босая, с двумя сопливыми детишками — дайте двадцать копеек на дорогу домой. Летом этих цыганок на юге — полчища. И всем не хватает двадцать копеек, чтобы доехать до дому. Дал я ей полтинник. Может, говорит, старенькая одежонка есть для детей? Нету, говорю, у нас детей, если хочешь, дам женины туфли. Жена пришла — и в обморок. Я ей объясняю, мол, женщина босая, понимаешь: бо-са-я! Дал бы, говорит, мои тапочки. Я ей: что, мол, я — дурак? Ты в тапочках каждый день ходишь, а туфли за год ни разу не надела.
— Марк, — сказала жена, собирая вещи. — Я устала.
Возможно, читатель улыбнулся и подумал: развеселый рассказчик попался, то-то он меня сейчас насмешит. Увы. Я всегда печален, и все, о чем я рассказываю, печально. Ей-богу, мне можно было бы присвоить звание Рыцаря Печального Образа, не будь я от природы не по-рыцарски осторожен. Вот и туфли: я возненавидел их из осторожности — уж больно жена в них красива.
Так вот, страна стала отстраиваться, в Керчи соорудили бетонную набережную с разными там фонтанчиками, стали благоустраивать центр. Снесли старинный дом "Военторга", изрешеченный пулями, с пивной рядом — там сейчас шикарный "Универмаг", — и вот тут-то все и началось: в кирпичной кладке пивной нашли кувшинчик с золотыми древнегреческими монетами. А может, с царскими, не помню.
Нам с Петькой Рыжовым тогда стукнуло по шестнадцать, и мы твердо решили приобрести парусно-моторную шлюпку и укатить куда глаза глядят: в открытое море. Авось подвезет и наткнемся на необитаемый остров. У Петьки отец пил запоями и колотил по пьяни мать, а Петьку — и по пьяни, и по-трезвому. Я жил у тетки Изабеллы Станиславовны, материной сестры: по матери я польско-испано-франко-итальяно-эскимосских кровей, короче, сам черт не разберет, и тетка все пыталась научить меня говорить то по-польски, то по-французски, то по-итальянски, и мне тоже было либо в прорубь головой, либо на необитаемый остров. Про необитаемый остров — это я для красного словца, а на самом деле мы хотели мотнуть за границу и пристроиться к "Битлзам": я неплохо бренчал на шестиструнке и пел на четырех языках русские частушки, а Петька показывал умопомрачительные фокусы — например, проглатывал сырое воробьиное яйцо и тут же выплевывал живого воробья. Мы даже воробьев наловчились ловить почти голыми руками. Петька погиб в свой самый первый рейс и не посреди бушующего океана, а в мелководном Азовском море, на лихтере "Рокша". "Рокша" таскала агломерат из Керчи в Мариуполь. План жал, поторопились с загрузкой, не рассчитали, прихватил небольшой штормишко, и судно разломилось на волне: горячий агломерат стал гулять в трюме. Погибли все, погиб и Петька-фокусник, мой первый закадычный дружок. Да и последний, кажется.