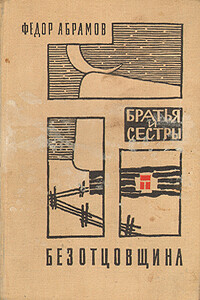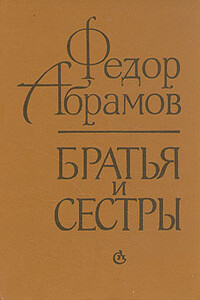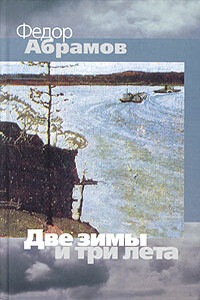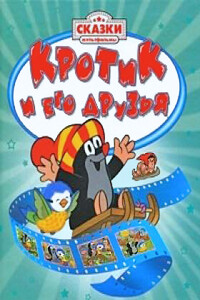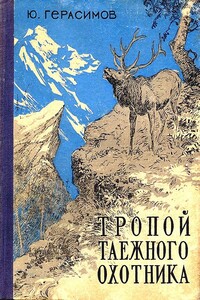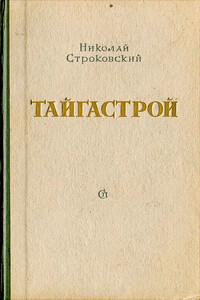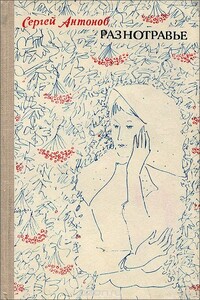На Ладожском приволье у Крутовых я не был больше полугода, и вот первая новость — маленький рыжий песик, который звонко и яростно залаял на меня, едва мы с Мироном подошли к калитке.
— Да откуда у вас этот молодец? Как зовут?
— Франтик.
— Франтик? Это еще что за имя?
Мирон, явно собираясь с мыслями, закусил нижнюю губу, но ответить не успел: на крыльцо, добродушно улыбаясь, выкатил сам Захар Павлович — плотный, не по годам румянощекий, а вслед за ним шумно и крикливо, как цыганский табор, его сыновья, дочери, зятья, внуки…
Все они, начиная с хозяина и кончая самым малым ребятенком, были одеты по-рабочему — в ватники, в свитеры, в резиновые сапоги, и минут через двадцать в таком же облачении были и мы с Мироном.
Дачной жизни в общепринятом смысле — с прогулками, с картами, с лежкой на солнышке (а место позволяло — Ладога гуляла под боком) — у Крутовых не было. Все работали — от велика до мала. Весь день. Ибо работы было невпроворот. Четыре жилых сараюги, помимо брусчатого дома, постоянного обиталища Захара Павловича, стоят на участке Крутовых, и все они были собраны и сколочены без малейшей подмоги со стороны. А потом — огород, сад, заготовка дров и еще и еще всякие хлопоты и заботы.
Нынешний день ничем не отличался от предыдущих — с жадностью, прямо-таки с упоением нырнул я в крутовский котел жизни, так что про песика с поразившим меня именем и думать было некогда. Да он и сам больше не подавал голоса — быстро разобрался в характере моих отношений с хозяевами.
Вспомнился мне песик поздно вечером, когда мы с Мироном, садясь в электричку, вдруг увидели на пустынной платформе возле леса светловолосую девочку-школьницу с огромным, мрачного вида бульдогом, широкая грудь которого была сплошь увешана медалями.
— Ну так кто же у вас главный выдумщик по собачьим именам? — спросил я, когда платформа с бульдогом и девочкой осталась позади. — Кто окрестил так песика?
— Кто-кто… Все мы… — как-то неохотно и уклончиво буркнул Мирон.
— А всё же?
Мирон помялся, пожал своими широченными плечищами (богатырской кладки человек), потом цепким крутовским взглядом обвел пустой вагон и со вздохом сказал:
— Понимаешь, собачонка у нас когда-то такая была — Франтиком звали. Маленькая собачка, желтенькая, на лису похожа и очень смелая. Ну так вот эта собачка, можно сказать, нам, Крутовым, жизнь спасла…
Мирона не скоро раскачаешь, не скоро доберешься до его сердца — чистый каторжник, как в шутку говаривал про него Захар Павлович, имея в виду своего деда, сосланного когда-то в Сибирь за какое-то тяжкое преступление, чуть ли даже не за убийство человека, но в конце концов и он разговорился:
— Давняя это история. Мохом уже обросла. Мне тогда шесть лет было. Петру одиннадцать, Марфе пять, что ли, Ольге год, ну а Степана, как говорят, того еще и в проекте не было. Жили мы тогда в Новосибирске, на окраине, в глухом-глухом переулке, у оврага, рядом со свалкой. И вот, бывало, любимое занятие у нас, ребятишек, эта свалка. Роемся. Дети. Все интересно. Там стеклышко цветное, там какая-то баночка, там бутылочка… Всякой всячины полно. А то опять в индейцев играем: лопух да чертополох в овраге — как лес. Иной раз уползешь в этот самый лес, не знаешь, как и обратно выбраться. И вот как-то раз мы с Петром да Марфенькой ползаем в своем лесу, и вдруг на глаза собачонка, щенок. Сидит под лопухом одна одинешенька и ни с места. Ну, дети — известно: жалко. Понесли домой. А мама как увидела нашего найденыша — ни в какую. «Сейчас же несите обратно!» Мы с Марфенькой ушам своим не верим: да мама ли это наша? А мама у нас… Понимаешь, самый святой человек, ангел, залетевший на эту богом проклятую планету… Ладно, в другой раз! — резко оборвал свой рассказ Мирон.
Какое-то время мы ехали молча, сосредоточенно вглядываясь в мелькавшие за черным окошком дачные огни. А потом Мирон, может быть, еще больше растравленный своими воспоминаниями, чем я, заговорил опять:
— В общем, так, в тридцать пятом году дело было. Отец и мама тогда еще паспорта не имели. Жили, как говорится, на нелегальном положении.
— Постой-постой! Да ведь Захар Павлович — красный партизан. Советскую власть в Сибири ставил…
— Ну и что! Ставил! — Мирон исподлобья, шумно дыша, глянул на меня, и вот когда, почудилось мне, не на шутку, а всерьез проступили в его закаменелом лице черты далекого прадеда. — Знаешь, какой сон отцу снится вот уже сорок два года? Крестьянский дом под железной крышей, с крашеными воротами, с лошадьми, коровами во дворе, с молодой хозяйкой, с детьми. Ну так это не сон, а наша быль. Среди ночи прискакал к отцу дружок из района: «Захар, запрягай своего Воронка, кидай в сани детишек да скачи что есть мочи, ежели жить хочешь. Раскулачивать тебя едут». Ну, отец, не раздумывал, не расспрашивал. Знал, какие дела кругом творятся. Воронка запряг, нас, спящих ребятишек, как котят, в сани, Марфеньку прямо с зыбкой вынес из дому — вывози, Воронко. Мама в передке, на вожжах, а сам с ружьем на заднике: лучше погибну, а живым не дамся. Отец у нас такой: терпит-терпит, мухи не обидит зря, но уж ежели несправедливость — берегись. В общем, спаслись Крутовы. Воронка на подъезде к городу бросили — просто загнали беднягу, — а сами и пошли мытарить по миру. Ты даже представить не можешь, где только мы не жили, куда только нас не заносило. Всю Сибирь изъездили, весь Казахстан, всю Киргизию, на всех стройках перебывали. На стройках проще. Там землекопы, чернорабочие нужны позарез — паспорта не спрашивают. Ну а жили мы… в землянках, в карьерах, в норах. Петр до двенадцати лет в школе не бывал. Отец сам и учил. А в селе родном в это время свой дом. Тепленький. На полном ходу. Мама до того торопилась, что сережки не успела в уши вдеть — так на столе и остались. И вот ничего — ни скотины, ни добра всякого, ни карточек семейных на стене, — ничего не жалела мама. А сережки жалела. Особенно в войну, когда отец на фронте был. Как вспомнит, так слезами и зальется. Отец эти сережки подарил маме, когда она в невестах ходила… Да, — неожиданно ухмыльнулся Мирон, — так вот пришлось бежать отцу из своего родного дома…