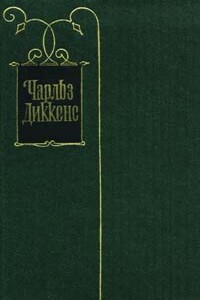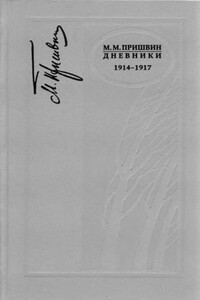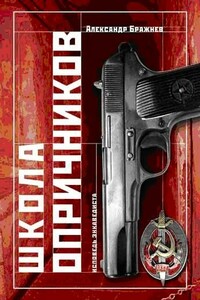Общий характер творчества Шопена
Веймар, 1850.
Шопен! нежный гений гармонии! Какое сердце, его полюбившее, какая душа, с ним сроднившаяся, не дрогнет, услышав его имя, как при воспоминании о каком-то высшем существе, с которым посчастливилось встретиться! Но как бы ни скорбели о нем все артисты и многочисленные друзья, позволительно сомневаться, настал ли уже момент всеобщей верной оценки по достоинству того, чью потерю мы так исключительно остро чувствуем, и уяснено ли высокое место, какое готовит для него будущее.[1]
Если в жизни часто подтверждалась истина, что нет пророка в своем отечестве, то не верно ли также и то, что люди будущего, те, кто его предчувствуют и приближают своими творениями, не бывают признаны пророками своей эпохой?… И правда, разве могло бы быть иначе?… Не возносясь в сферы, где разум должен был бы, до известной степени, служить порукой опыту, осмелимся утверждать, что в области искусств всякий гений-новатор, всякий автор, который, оставляя идеалы, типы, формы, питающие и восхищающие его современность, ставит новый идеал, создает новые типы и неведомые формы, – раздражает современное ему поколение. Только последующее поколение поймет его мысль, его чувство. Напрасно молодые художники, друзья и последователи такого новатора, будут ополчаться против ретроградов, которые неизменно душат живых мертвечиной, в музыке еще больше, чем в других искусствах, – только времени дано порою выявить всю красоту и все значение новых вдохновений и форм.
Многообразные формы искусства – своего рода заклинания; весьма различные формулы его предназначены вызывать в своем магическом круге чувства и страсти, которые художник желает сделать ощутимыми, зримыми, слышимыми, в известном смысле осязаемыми, и передать во всем их внутреннем трепетании; гений выявляет себя изобретением новых форм, – иногда в применении к чувствам, пока еще не возникавшим в волшебном круге искусства. В музыке, так же как и в архитектуре, восприятие связано с эмоцией без посредника в виде мысли и рассудка, не так, как в ораторском искусстве, в поэзии, в скульптуре, в живописи, в драматическом искусстве, где требуется знание и понимание их содержания, которое разумом постигается раньше, чем сердцем. Поэтому одно уже применение необычных форм и приемов разве не мешает непосредственному пониманию произведения этого искусства?… Необычность новых впечатлений от самой манеры высказывать, выражать свои мысли и чувства, сущность, очарование и тайна которых еще не раскрыта, – поражает, даже утомляет; произведения, созданные в таких условиях, принимаются за написанные на непонятном языке, который, как таковой, кажется поэтому варварским.
К нему трудно приучить ухо, трудно вполне понять основания, в силу которых прежние правила изменяются, постепенно переделываются, применяясь к условиям, не существовавшим в момент их возникновения, – этого достаточно, чтобы отшатнуть многих. Упорно отказываются изучать новые произведения, не желают разбираться в том, что они хотели сказать и почему нельзя было сказать это иначе, без нарушения старинных традиций музыкальной речи; думают таким образом изгнать из священной области чистого, лучезарного искусства грубый жаргон, недостойный прославленных мастеров прошлого.
Подобное предубеждение сильнее испытывают натуры добросовестные, положившие много труда на изучение уже постигнутого ими и уверовавшие в свое знание, как в догму, вне которой нет спасения; оно становится еще сильнее, упорнее, когда гений-новатор в новые формы облекает чувства, ранее не получавшие выражения. Тогда его винят в незнании и того, о чем искусство может говорить, и того, как оно должно говорить.
Музыканты не могут даже надеяться, что смерть может вдруг повысить ценность их трудов, как это бывает с произведениями художников, и никто из них не мог бы на пользу своим рукописям повторить уловку одного из великих фламандских мастеров, который, пожелав при жизни использовать свою будущую славу, наказал своей жене распространить слух о своей кончине, чтобы поднять цену картин, которыми он позаботился украсить свою мастерскую. Пристрастные воззрения школы также могут в изобразительных искусствах задержать правильную оценку тех или иных мастеров при их жизни. Кому не известно, что страстные поклонники Рафаэля метали громы и молнии против Микеланджело, что в наши дни долго не признавали заслуг Энгра, сторонники которого, в свою очередь, подносили Делакруа, а в Германии приверженцы Корнелиуса предавали анафеме последователей Каульбаха,[2] и те тоже не оставались в долгу. Однако в живописи эта борьба школ раньше получает справедливое разрешение: выставленную новатором картину или статую могут смотреть все; глаза массы привыкают к ним, а мыслитель, беспристрастный критик (если такие бывают!) может добросовестно изучить ее и открыть в ней реальную ценность идеи и непривычных пока форм. У него всегда есть возможность вновь рассмотреть ее и определить (было бы желание), есть ли в ней или нет полное соответствие между содержанием и формой.
Иное дело в музыке. Упорные приверженцы старых мастеров и их стиля не разрешают беспристрастным умам освоиться с творениями возникающей школы. Они прилагают все усилия, чтобы помешать ознакомлению с ними публики. Если ненароком и предстоит исполнение 'какого-нибудь произведения, написанного в новом стиле, они, не довольствуясь атаками на него всех органов печати, имеющихся в их распоряжении, не допускают этого исполнения. Они налагают руку, на оркестры и консерватории, концертные залы и салоны, воздвигая против всякого автора, перестающего быть подражателем, систему запрета, начиная со школ, где формируется вкус виртуозов и дирижеров, кончая уроками, лекциями, концертами – как публичными, так и домашними, интимными, где формируется вкус слушателей.