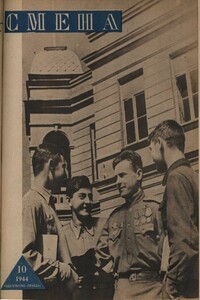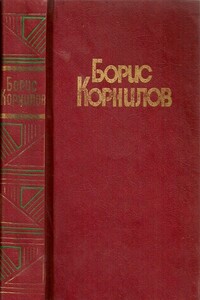Эшелон коменданта города, генерала Габаева, был пятьдесят второй, — последний эшелон, оставляющий город.
Над городом было зарево, и шестиэтажный дом на главной улице горел как факел, бросая в небо скрученные раскаленные листы кровельного железа.
Дом горел, долго светя пустынной улице. Как бы в раздумьи, упершись радиаторами в железные шторы магазинов, стояли разбежавшиеся с горы брошенные грузовики.
Поезд грузили на товарной. Редко и тускло светили зеленые калильные фонари, и на вагонах можно было читать косые надписи мелом:
«Штаб лейб-гвардии артиллерийской бригады».
«Контр-разведка речных сил юга».
«Лейб-гвардии атаманский»…
Кроме обыкновенных классных и товарных вагонов, была теплушка с двадцатью тремя подозрительными, которые числились за контрразведкой.
Теплушка была заперта тяжелым ржавым замком-дугой. На тормозной площадке спали конвоиры в полушубках и стальных французских шлемах.
Когда по цепному мосту карьером прошли первые конники с красными лентами поперек папах, эшелон „пятьдесят два", медленно выбираясь из пустых составов на путях, двинулся в сырую ноябрьскую ночь. И два паровоза с пулеметами на тендерах дали полный ход тяжело груженому поезду.
Первый от паровоза вагон был комендантский. Второй имел бельгийские флаги на передней и задней площадках.
Пергаментный полулист на дверях вагона. Смытые дождем слова:
«По соглашению высшего командования, главноначальствующим областью… предоставлен… иностранным гражданам»…
И две печати — бельгийского генерального консульства и главноначальствующего областью.
В этом вагоне ехали девять иностранцев — бельгийцы и французы, англичанин- корреспондент „Daily News", две пожилые дамы, мальчик шести лет и сахарозаводчик Каганский.
Господин консул Жиро, в серо-голубой куртке с круглым бархатным воротом и ночных туфлях, сидит в купэ у господина Каганского. Свечи в подсвечниках, снежно-белые салфетки на столиках в купэ, новенькие кожаные чемоданы и несессеры на полках в полагающихся багажу местах.
В погребце хрусталем и никелем блестит дорожная посуда. В термосе приятное красное слегка подогретое винцо. Каганский аккуратно вытирает салфеткой хрустальные граненые стаканчики.
— В стратегическом отношении положение я бы назвал благополучным. За ночь сделаем не менее 120 км. Беру минимум. Но какие бандиты…
Каганский грустно усмехается…
— Вас удивляет?
Корректный и независимый мсье Жиро принужден огорчить собеседника.
— Как представитель дружественной державы, не могу скрыть от моего правительства самых печальных… самых печальных выводов…
Каганский продолжает, чтобы не утруждать господина консула:
— Последняя степень падения. Вы сами видите, мой дорогой.
— Понятно, тяжело быть русским… Национальная честь, достоинство… пустые слова.
Мсье Жиро грустно поджимает губы и проводит рукой по животу:
— Жертвы, жертвы и жертвы. Можно понять, можно простить, если бы не бесплодно. Если ради отечества, ради порядка и права… да…
Затем со сдержанным сочувствием пожимает руку Каганского.
— Спокойной ночи.
Платформы с грузовиками и платформа с броневиком „Боярин" в хвосте эшелона. Перед грузовиками теплушка с арестованными, числящимися за контрразведкой.
В теплушку не дали света. Двадцать три человека лежат и сидят на выщербленном полу, на заплеванной прелой соломе. Крепкий дух от кожухов и махорки крестьян села Шпанова. После пожара экономии село брала с боем кавалерия и пехота. Некоторых засудили на месте, а этих зачем-то угнала в город государственная стража. Когда же пришлось и пехоте и кавалерии уходить из города, ночью крестьян повели за 24 км на товарную станцию и заперли в теплушку. И вот гудят по рельсам оси, крепко потряхивая теплушку. Двадцать три человека по счету, крестьяне и городские, молодые и старые, здоровые и больные и женщины. Арсенальные рабочие — Тарас и Юра, наборщик Волков, по прозвищу Волчок, раненный в бок при посадке. Ранил штыком конвоир за крепкое слово. Чистых тряпок не нашлось, и рану перевязали украинским вышитым полотенцем и положили Волчка на здоровый бок. Лежит, редко стонет и трясется лихорадочной, мелкой дрожью. Потом были еще пленный курсант Митя и Нухим Кац, мальчик из типографии, — его взяли за то, что нашли в сундучке две залежавшиеся со времен красных газеты. А скорее за то, что был очень уж смуглый, глаза как маслины, и оттопыренные уши торчком.
Серая сырость. У товарной площадки стоит поезд, светясь желтыми прямоугольниками окон. Тусклым массивом за тремя путями — вокзал — темный, пустынный, и поперек путей черные, разборчивые буквы „Бобрики". В зале первого класса — битый мрамор буфетных стоек, навоз, кирпич и глина. На полу, за двойным рядом солдат в шлемах, двадцать три человека.
Керосиновая лампа-молния на опрокинутом ведре светло и весело светит на мусор, на сгорбленные тени в углу, на конвой от стены до стены. На асфальте под дебаркадером топот и шорох многих ног, и говор, и кашель. Сотрясая землю, скатываются с платформы на товарную станцию тяжелые грузовые машины.
Мрак, мгла и темь ночи сереют. Между массивами зданий и коробками вагонов просветы, серые рассветные полосы, и день прибавляется по капле, мешаясь с ночью и разбавляя темную сырую ночь… И пока люди хлопочут у машин и вагонов, над ними встает день тройным рядом светлых облаков и голубым просветом на востоке.