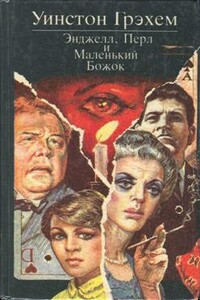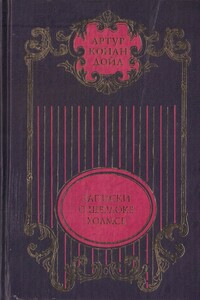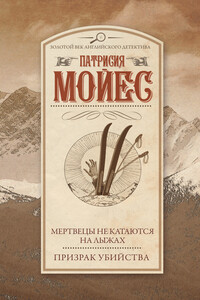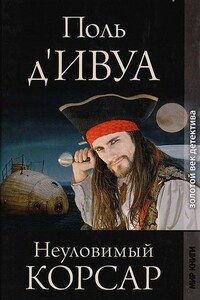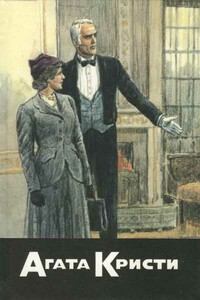— Хорошо, теперь можете одеваться, — сказал Матьюсон.
Энджелл надел нижнее белье и, щелкнув резинкой, мельком заметил выдернутую нитку на шелке кальсон, а затем, прислонившись к изголовью кушетки, влез в брюки. В такой позе всегда оказываешься в невыгодном положении, становишься чуть ли не посмешищем. Испытываешь некоторую неловкость и в то же время стараешься не ронять чувства собственного достоинства, вот как сейчас — боишься услышать страшные слова, приговор, который выбьет у тебя почву из-под ног, лишит тебя будущего, и при этом негодуешь в душе, что ты целиком во власти кого-то другого.
— Никаких отклонений у вас нет, Уилфред, — спокойно произнес Матьюсон, — поверьте, вы абсолютно здоровы. Все как в прошлом году — никаких изменений. Для вашего возраста вы, можно сказать, в прекрасной форме.
— А эти мои боли в сердце?
— Чисто функциональные. С возрастом у каждого появляются разные недомогания. А если вас волнует то, что я сказал вам прошлый раз, то выкиньте это из головы.
— Урчание в животе?
— Систолического характера. Едва различимое. Абсолютно ничего не означающее. Жалею, что вообще обмолвился об этом.
Энджелл надел шелковую рубашку, застегнул ее на все пуговицы, заправил в брюки. Независимо от его воли, им постепенно овладевало чувство некоторого облегчения, но он все еще боялся поверить в лучшее: в глубине души, там, где живет вечный страх, таилось недоверие.
Он пристально посмотрел на Матьюсона: уверенный в себе, с болезненным цветом лица, сухопарый, по-видимому, неутомимый в работе, пользуется репутацией прекрасного диагноста, процветает, принимая больных в прекрасно оборудованной квартире на улице Королевы Анны, консультирует в двух больницах и имеет небольшую, приносящую солидный доход частную практику среди состоятельных семей. Дом на берегу Темзы неподалеку от Чейн-Уок, жена из аристократической семьи, двое сыновей, которые учатся в Кембридже.
— Конечно, старая беда по-прежнему остается, Уилфред: вес ваш значительно превышает норму. Но, полагаю, мои разговоры тут напрасны.
— Да, я, разумеется, не считаю себя толстым, — сказал Энджелл, — при моем-то росте. У меня здоровая полнота, лишнего жира нет. И ваш диагноз это подтверждает.
— Станьте-ка вон на те весы на минутку.
— Чепуха. — Он потуже затянул узел синего вязаного галстука. Теперь, полностью одевшись, он чувствовал себя снова хозяином положения. — Мой вес не играет роли.
— Около семнадцати стоунов[1], могу поручиться. Если вы беспокоитесь о своем сердце, то не создавайте ему такой перегрузки. С сердцем у вас в порядке, но лишняя нагрузка всегда ему вредит. Как и всему остальному организму.
Это было старое больное место, но он пришел не за этим. Матьюсон сказал, что со здоровьем все благополучно — вот главное. Во всяком случае, ничего плохого не обнаружено, нашептывал ему тот самый недоверчивый, все еще не вполне успокоенный голос. Энджелл глубоко вздохнул, дыхание было чистым, незатрудненным. При этом фигура его сделалась еще величественнее. Остатки беспокойства понемногу покидали его, он ощущал, как оно уходит, исчезает, медленно, постепенно, но окончательно. Состояние покоя и умиротворения нисходило на его душу, пока еще полностью не завладев ею. Он знал по прошлому опыту, — ибо такое случалось в жизни не впервые, — что не пройдет и нескольких минут, как все изменится. Жизнь, ее каждое мгновение, станет ему дорога. Как только опасность исчезнет, солнце и звезды вновь засияют на небе.
— Кстати, как поживает леди Воспер? — спросил Энджелл, главным образом чтобы отвлечь Матьюсона, который, как он видел, снова собирался вернуться к вопросу о его весе, давать свои нелепые советы по поводу физических упражнений и соблюдения диеты.
— Кто? Леди Воспер? — глаза у Матьюсона были странные, чуть разного цвета и, казалось, всегда смотрели в разные стороны. Порой это напоминало автомат, в который опускаешь шестипенсовик и вместо двух апельсинов вдруг получаешь лимон и апельсин.
— Вы ведь до сих пор лечите ее, не так ли? Я не виделся с ней с января, но слыхал, что она нездорова.
— Да… да, это верно.
Мрачные переживания последних дней не ослабили остроты его наблюдательного ума, достаточно бдительного, чтобы заметить некоторые нюансы в голосе врача. Обычный вопрос вызвал обычный и несколько неожиданный ответ. Но в нем могло крыться нечто значительное — значительное для той жизни, к которой Энджелл вновь готовился вернуться.
— Вы хотите сказать, что она серьезно больна?
Вопрос явно не понравился.
— Ну, как вам сказать. Да, она нездорова.
— Насколько серьезно?
— Она нездорова.
— Вот как? Мне очень жаль.
Он застегнул клетчатый жилет. Затем нагнулся, чтобы зашнуровать ботинки. Если бы Матьюсон не наблюдал за ним, процесс этот доставил бы ему даже удовольствие (пожалуй, единственная поза, при которой вес ему явно мешал, создавая лишнее напряжение). Кабинет был чересчур натоплен, приспособлен скорее для обнаженных больных, находящихся в беззащитном состоянии.
Он осторожно заметил:
— Вам, конечно, известно, что нас чисто профессионально интересует, как обстоят дела у Флоры Воспер, — главным образом это заботит моего коллегу Мамфорда.