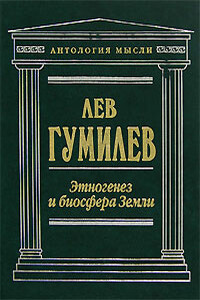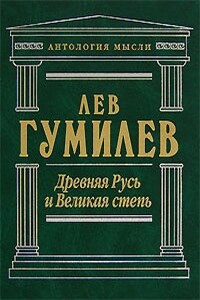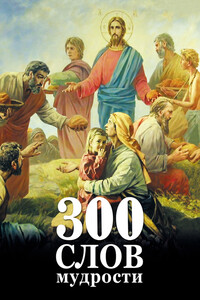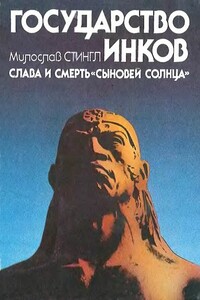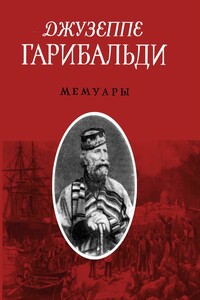В современной западной историографии прижилось мнение, что кочевые народы Евразии представляют собой аморфную массу варваров, не способных к созданию культуры, хотя иногда воспринимающих достижения своих оседлых соседей. Поэтому в концепциях многих европейских ученых особенности кочевого быта излагались суммарно, как «степная империя», без учета фактора времени и места[1]. Даже в лучшей сводке фактического материала, созданной таким крупным историком, как Р.Груссе, отсутствует попытка уловить ритмы закономерности, свойственной кочевникам, но это не снижает ценности его труда, потому что он сам названной нами выше задачи перед собой не ставил[2]. Это вызывает сожаление, потому что даже исчерпывающий подбор фактического материала, при отсутствии обобщения, дает повод недостаточно вдумчивому читателю сделать выводы, не предусмотренные автором.
В советской науке эту предвзятую мысль отчасти преодолела археология, ибо множество находок на территории евразийской степи показало наличие земледельческих поселений даже в глубокой древности. Однако взамен одной умозрительной концепции была предложена другая, согласно которой кочевники, беднея, превращались в земледельцев и тем самым приобщались к цивилизации[3]. Концепция эта была неуязвима до тех пор, пока она не подверглась проверке с позиций сопредельных дисциплин: географии и антропологии. Игнорировались роль ландшафта как экономико-географического района, возможность адаптации и необратимость эволюции. Внесение в разработку проблемы этих неоспоримых моментов заставляет пересмотреть предложенную концепцию, тем более что возможностей к тому вполне достаточно.
Долгое время казалось, что интерпретация исторических процессов Срединной Азии невозможна потому, что в научном обороте нет достаточного количества проверенного материала. Но за последние полвека исследовательской работы ориенталистов всего мира переведено столько текстов, собрано столько материала, что речь может идти, прежде всего, о систематизации уже накопленного. И тут возникает первая трудность – выбор аспекта. Попытки механически перенести закономерности европейского социального развития в Центральную Азию потерпели неудачу, так как каждая большая этнокультурная целостность имеет свои локальные особенности и они тем больше, чем дальше отстоит географическая среда изучаемой области от европейского эталона. Поскольку развитие производительных сил, в конечном счете, всегда связано с природными возможностями[4], то, признавая единство всемирно-исторического процесса, никак нельзя игнорировать его модификации, имеющие для истолкования фактического материала огромное значение. Вместе с тем бессмысленно кодифицировать мелкие различия ландшафтов и биоценозов, потому что тогда можно дойти до абсурдного дробления на необозримое число малых единиц, скажем отдельных деревень, что не только не облегчит обозрение предмета в целом, но сделает его вообще немыслимым. Поэтому вместе с аспектом нам нужно выбрать масштаб, отвечающий поставленной цели. Иными словами, надо произвести этногеографическое районирование и на этой базе выделить объект исследования.
Географическая классификация этнокультурных регионов применялась давно и не без успеха. Как всякая классификация, она условна, но удобна и наглядна, что позволяет ею пользоваться для систематизации наших знаний. На евразийском континенте легко выделяются три больших полуострова: Индия, Западная Европа и Левант, к которому примыкает Северная Африка со схожим ландшафтом. Также отчетливо ограничена субтропическая зона муссонного увлажнения – Китай, причем граница с внутренними районами Азии ощущалась еще в III в. до н. э., когда была сооружена Великая китайская стена как раз по границе ландшафтов. За пределами перечисленных регионов остается степная и лесостепная зона континента, ограниченная с севера непроходимой и не пригодной для жизни тайгой, за которой идет северный аналог степи – тундра. Но о ней надо говорить особо.
Этот последний регион уже 3000 лет является местом становления конно-кочевой культуры или, точнее, ряда культур: скифской, хуннской, древнетюркской и монгольской, связанных между собою так же, как эллино-римская культура Западной Европы связана с романо-германской культурой или с предшествовавшей ей крито-микенской. Во всемирно-историческом процессе развития человечества эти культуры представляются ступенями, в плане этногенеза – «квантами» процесса, разделенными мятежными эпохами, когда культурная традиция прерывалась. Точно такие «пустые» или «темные» периоды лежат между эпохами державы Хунну и Вечного тюркского эля (III – V вв.), падением Уйгурского ханства и созданием монгольского улуса (IX – XI вв.). И, говоря словами Цезаря, hi omnes lingua, legibus, institutis inter se different (в пер. с лат. – «все они различаются между собой языком, обычаями, законами”) , несмотря на то, что основой хозяйства всюду был кочевой быт, как будто не способный к прогрессу.
Как это могло быть, хотя мы знаем, что было именно так?
Общепринято считать, что феодализм в Западной Европе возник при соревновании, а иногда соперничестве замка и города (Schloss und Burg), но в степи не было и не могло возникнуть ни того, ни другого. Значит ли, что там не было развития?