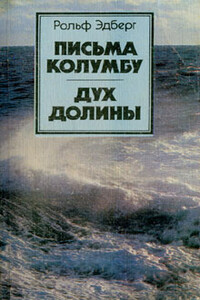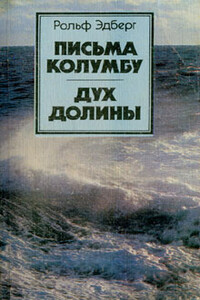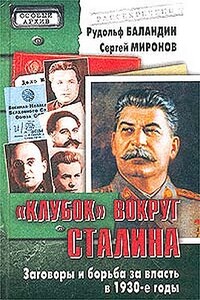Откинув полог палатки, вижу над темным гребнем Ламагрута красную, как лагерный костер, зарю.
Я мешкаю, прежде чем выйти. Хочу уловить зыбкие признаки нарождающегося дня. Отмечаю, как выступают из сумрака ближайшие акации и ландшафт обретает все более твердые контуры.
Тропическое утро коротко. На ваших глазах оно снимает с ландшафта ночной покров, проявляя дневное изображение за те быстротечные минуты, когда природа словно затаивает дыхание.
Ночной ветер пошел на убыль. Его прохлада еще ощутима, но теперь уже скоро над саванной и плоскогорьем поплывет дневное знойное марево. В мягком утреннем свете редкая трава кажется золотистой и бархатной; вскоре станет шершавой сушью. Стадо газелей, нарисованное тушью на красном фоне зари, трогается с места и скользит мимо палатки, чтобы затем слиться с саванной. Этот ландшафт: такой чистый, могучий, спокойный. Покатыми длинными волнами уходит он к одетому кустарником скальному массиву Наибор-Соит, что вздымается, подобно острову, над морем травы. И все так естественно, так очевидно.
Покой для души и безбрежные дали, где можно странствовать бесконечно, без спешки и без цели.
Делаю несколько глубоких вдохов. Чувствую, как меня наполняет великая легкость и животворная уверенность. Словно каждая клеточка возглашает: здесь твоя родина>{2}. Обыденное «я» упирается и спорит. Хоть я и прежде испытывал то же ощущение при встрече с Африкой, однако знаю, как легко воображаемые настроения принять за подлинные. Столько читал и слышал от других о чувстве возврата на родину в этом ландшафте, что обещал себе быть начеку, относиться с иронией ко всяким влияниям и готовым восприятиям.
Но, пытаясь внушить себе, что все это — чистое воображение, я убеждаюсь, что отрицание как раз и заключает в себе самообман. Чувство возврата после долгого отсутствия слишком сильно, чтобы его можно было изгнать. И это вовсе не то же, что странное узнавание, какое порой ощущаешь в чужом краю. Нет, это как сновидение, которое нельзя в точности воспроизвести, однако оно дразнит сознание намеками, такими же летучими и неуловимыми, как силуэты рассветной поры.
Годы усилий с редкими минутами счастья, когда ты бывал в ладу с собой, и хандра всякий раз, когда чувствовал свою слабость, эти годы становятся далекими и несущественными. А вся действительность, заключающая в себе и начатие, и свершение, — здесь.
Клетки помнят…
Ночи, полные звуков, затихающих под утро, — звуков охоты и бегства, страсти и страха. Как они близки, когда лежишь под брезентом палатки.
Раскатывающееся над плоскогорьем булькающее хриплое рыканье львов в овраге. Стук копыт и звонкое ржанье: «ква-ха-ха, ква-ха-ха» — бегущие зебры. А в промежутках — вопли и вой гиен, иногда приглушенно, точно сам ночной край причитает или гротескно хихикает, иногда — жутким рваным фальцетом, когда гиена выражает свое довольство при виде добычи или во время спаривания. Далекие сирены шакалов, трескотня и посвист потревоженных павианов, тяжелые взмахи крыльев, когда перед самым рассветом стервятники снимаются с древесных крон, чтобы начать свою всевидящую рекогносцировку саванны. И все это подхвачено и синкопировано ночным ветром, перебирающим колючки и дергающим палаточные колышки.