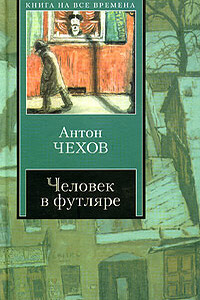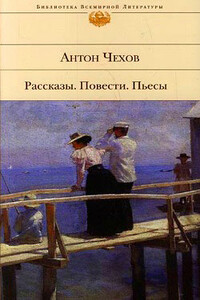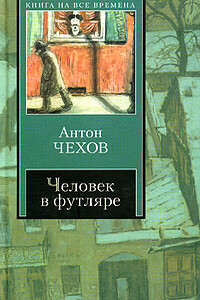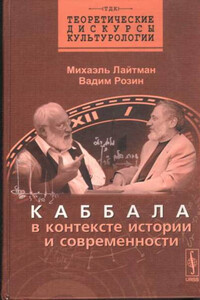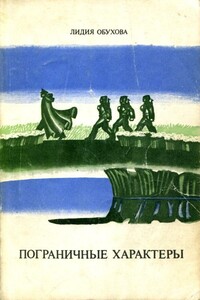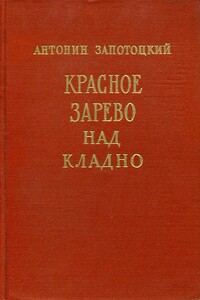Мой сосед В. Н. Семенкович рассказывал мне, что его дядя Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался.
В январе я был в Петербурге, остановился у Суворина. Часто бывал у Потапенко. Виделся с Короленко. Часто бывал в Малом театре. Как-то я и Александр спускались по лестнице; из редакции вышел одновременно Б. В. Гей и сказал мне с негодованием: «Зачем это вы вооружаете старика (т. е. Суворина) против Буренина?» Между тем я никогда не отзывался дурно о сотрудниках «Нового времени» при Суворине, хотя большинство из них я глубоко не уважаю.
В феврале проездом через Москву был у Л. Н. Толстого. Он был раздражен, резко отзывался о декадентах и часа полтора спорил с Б. Чичериным, который все время, как мне казалось, говорил глупости. Татьяна и Мария Львовны раскладывали пасьянс; обе, загадав о чем-то, попросили меня снять карты, и я каждой порознь показал пикового туза, и это их опечалило; в колоде случайно оказалось два пиковых туза. Обе они чрезвычайно симпатичны, а отношения их к отцу трогательны. Графиня весь вечер отрицала художника Ге. Она тоже была раздражена.
5 май. Дьячок Иван Николаевич принес мой портрет, написанный им с карточки. Вечером В. Н. Семенкович привозил ко мне своего друга Матвея Никаноровича Глубоковского. Это заведующий иностранным отделом «Московских ведомостей», редактор журнала «Дело» и врач при моск<овских> имп<ераторских> театрах. Впечатление чрезвычайно глупого человека и гада. Он говорил, что «нет ничего вреднее на свете, как подло-либеральная газета», и рассказывал, будто мужики, которых он лечит, получив от него даром совет и лекарство, просят у него на чаек. Он и Семенкович о мужиках говорили с озлоблением, с отвращением.
1-го июня был на Ваганьковском кладбище и видел там могилы погибших на Ходынке. В Мелихово со мною поехал И. Я. Павловский, парижский корреспондент «Нового времени».
4 августа. Освящение школы в Талеже. Талежские, бершовские, дубеченские и щелковские мужики поднесли мне четыре хлеба, образ, две серебр<яные> солонки. Шелковский мужик Постнов говорил речь.
С 15 по 18 августа у меня гостил М. О. Меньшиков. Ему запрещено печататься, и он теперь презрительно отзывается о Гайдебурове (сыне), который сказал новому начальнику Главного управления по делам печати, что из-за одного Меньшикова он не станет жертвовать «Неделей» и что «мы всегда предупреждали желания цензуры». М<еньшиков> в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется на замирания сердца. От меня он поехал к Л. Н. Толстому.
Из Таганрога выехал 24-го авг. В Ростове ужинал с товарищем по гимназии Львом Волкенштейном, адвокатом, уже имеющим собственный дом и дачу в Кисловодске. Был в Нахичеване — какая перемена! Электричеством освещены все улицы. В Кисловодске на похоронах ген. Сафонова встреча с А. И. Чупровым, потом встреча в парке с А. Н. Веселовским, 28-го поездка на охоту с бароном Штейнгелем, ночевка на Бермамуте; холод и сильнейший ветер. 2-го сентября в Новороссийске. Пароход «Александр II». 3-го приехал в Феодосию и остановился у Суворина. Видел И. К. Айвазовского, который сказал мне: «Вы не хотите знать меня, старика», — по его мнению, я должен был явиться к нему с визитом. 16-го в Харькове был в театре на «Горе от ума». 17-го дома: погода чудесная.
Влад. С. Соловьев говорил мне, что он носит всегда в кармане брюк чернильный орех — это, по его мнению, радикально излечивает геморрой.
17 окт. в Александринском театре шла моя «Чайка». Успеха не имела.
29 был на земском собрании в Серпухове.
10 ноября получил письмо от А. Ф. Кони, который пишет, что ему очень понравилась «Чайка».
26 ноября вечером у нас в доме был пожар. В тушении участвовал С. И. Шаховской. После пожара князь рассказывал, что однажды, когда у него загорелось ночью, он поднял чан с водой, весивший 12 пуд., и вылил воду на огонь.
4 декабрь. О спектакле 17 октября см. «Театрал» № 95, стр. 75. Это правда, что я убежал из театра, но когда уже пьеса кончилась. Два-три акта я просидел в уборной Левкеевой. К ней в антрактах приходили театральные чиновники в вицмундирах, с орденами, Погожев со звездой; приходил молодой красивый чиновник, служащий в департаменте государственной полиции. Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, театра и живописи, надев вицмундиры! То же самое, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому больше ничего не остается, как стать чиновником. Толстые актрисы, бывшие в уборной, держались с чиновниками добродушно-почтительно и льстиво (Левкеева изъявляла удовольствие, что Погожев такой молодой, а уже имеет звезду); это были старые, почтенные экономки, крепостные, к которым пришли господа.