Утро, как всегда, началось с ласковых рук. Сегодня это были руки мамки Аграфены. Даже не открывая глаз, Ваня узнавал их. Мать любила лохматить волосы, и быстрые пальцы ее щекотали кожу, а мамка осторожно оглаживала щеки и подбородок теплыми бархатными ладонями.
— Вставай, княжич, вставай! Уж матушка-государыня будила-будила, да так и не добудилась. Смотри, на дворе уже Гнедка вывели погулять, а ты все дремлешь.
Одного упоминания о любимом коне было достаточно, чтоб дрема ушла. Ваня вскочил и, наступая на подол ночной рубашки, бросился к окну, да мамка перехватила.
— Ишь, каков пострел! Годится ли будущему великому князю[1], наследнику всея Руси, в исподнем народу показываться? Давай-ка сначала оденемся, причешемся, помолимся, теплого молочка попьем, а уж тогда с Божьей помощью…
Мамка приговаривала, а ее ловкие руки делали привычное дело. Скоро лицо загорелось от родниковой воды, которой Аграфена омыла Ваню из серебряного рукомойника. Еще несколько минут — и он уже стоял перед киотом в синем кафтанчике, обшитом золотым галуном, в голубых шелковых шароварах и желтых сафьяновых сапожках.
— Давай помолимся, княжич, за здоровье батюшки-государя и матушки-государыни, за Русь нашу. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…
Аграфена осенила себя широким крестом, земно поклонилась. Ваня повторял вслед за ней позы, жесты и слова, а закончив молитву, прибавил еще от себя, но так, чтобы мамка не слышала:
— И дозволь мне, Боженька, покататься на Гнедке.
В дверях показалось красивое, светящееся радостью лицо князя Ивана Федоровича Овчины-Телепнева-Оболенского, которого за доброту и искренность великий князь Василий Иванович и великая княгиня Елена Васильевна часто за глаза называли просто Овчиной, а Ваня — дядей Овчинкой. Именно он вчера покатал его на Гнедке.
Обычно без доклада в спальню княжича никто не заглядывал, но любимому слуге, родному брату Аграфены Челядниной, сделали исключение. Недавно отец Вани, великий князь Василий пожаловал Овчине боярский сан[2], а также титул конюшего[3], обязанности которого многие годы исполнял его покойный отец. Пожаловал за несомненные заслуги в военных походах, как командующему передового полка.
Сейчас появление дяди Овчинки в покоях наследника было прямым ответом на тайную просьбу Вани, и он, удивив мамку, счастливо крикнул:
— Да будет воля Твоя! Дядя Овчинка, покатай меня на Гнедке!
— Покатаю, княжич, всему свое время. А сейчас мне велено передать, что матушка-государыня уже в столовой палате!
Узкими тесными переходами повела Аграфена своего питомца на женскую половину. В горнице на длинном столе, устланном узорчатой скатертью, были расставлены золотые и серебряные блюда с разными печениями, вазы с вареньями, а над большим чаном с горячем сбитнем[4] клубился пар.
При виде сына великая княгиня Елена отставила свою чашку и, откинув рукава легкого кружевного летника, поцеловала его в лоб, усадила рядом с собою на обитую бархатом скамью и налила в чашу душистого напитка.
— Ешь, сынок мой ненаглядный!
Но Ваня выскочил из-за стола и подбежал к окну, чтобы удостовериться, ждет ли его любимая лошадь. Разноцветные слюдяные кружочки, вставленные в оловянные кольца оконного переплета, превращали двор в огромный цветник. Сейчас по цветнику бегали люди и собаки, но лошади не было, и княжич заплакал от огорчения: кто посмел увести Гнедка, если ему пообещал его сам Боженька?
Мамка сразу поняла, в чем дело, и утешила:
— Дядя Овчинка увел его завтракать, и тебе пора! А пока ты поешь, я доскажу тебе вчерашнюю сказку. Помнишь, про Кощея Бессмертного?
Сказки Ваня любил, особенно те, в которых совершал подвиги его тезка царевич Иван, и слушал их, стараясь не пропускать ни слова, чтобы самому стать таким же, когда подрастет.
— … И увидел царевич Иван, — протяжно, растягивая слова, говорила Аграфена, — на вершине дерева, на железных цепях висит кованый сундук. А в нем в яйце спрятана Кощеева смерть. Царевич натянул тетиву, и стрела разбила цепь. Упал сундук на землю и разбился, а из сундука выпало…
Что выпало из сундука, Ване так и не удалось узнать, потому что дверь в горницу распахнулась. Вошел ванин отец, и будто ветром смело со скамей у стен ближних боярынь и служанок, в окружении которых завтракали царственные мать с сыном. Все женщины вскочили, склонились в земном поклоне и тут же, почтительно обходя государя, скрылись за дверью. В столовой остались только великая княгиня с Ваней да Аграфена.
Так было всегда, когда приходил отец. В мамины покои не разрешалось заходить ни одному мужчине, но и здесь, как и в Боярской Думе, он был самым главным. Ване он казался былинным богатырем, и даже более могучим, потому что побеждал не оружием, не меткой стрелой и не в рукопашном бою, а какой-то таинственной невидимой силой, которая исходила от него. Одного жеста или взгляда, или даже одного его появления среди людей было достаточно, чтобы все, как один, сделали то, что он желал.
Вот сейчас он захотел остаться один на один с мамой и Ваней, и тут же это произошло. Мамка Аграфена не в счет — она всегда рядом, насколько помнит себя Ваня. Ну, нельзя же представить себе плечо без его продолжения — руки. А мама и тятя — это как дыхание, его не замечаешь, а попробуй не дышать…
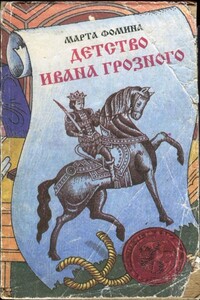




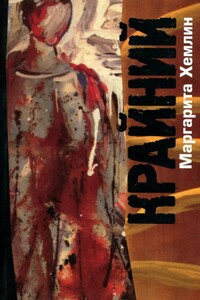
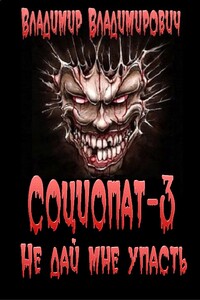

![Песнь в мире тишины [Авторский сборник]](/storage/book-covers/be/be2723eec8d85dc3b97a39d8364c2aa9175ec9cf.jpg)



