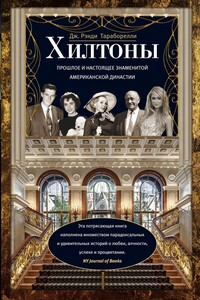Судьба актрисы Шарлотты Валандре поистине незаурядна и вполне заслуживает внимания. Несмотря на тяжелый анамнез, ВИЧ-инфекцию и пересадку сердца, она по-прежнему энергична и обладает кипучей и заразительной жизненной активностью. Пройденный ею уникальный путь стал поразительным свидетельством, важным как для тех кардиологических больных, которым необходима пересадка сердца, так и для всего лечащего персонала. Донорство – потрясающее проявление человеческого братства. Шарлотта Валандре прекрасно поняла это и со свойственными ей пылкостью и обаянием включилась в неустанную и увлекательную борьбу. Точно найденные ею слова должны убедить самых закоренелых скептиков. Надо помнить, что первые шаги в области кардиотрансплантации сделаны менее пятидесяти лет назад, и были они героическими. Накопленный с годами положительный опыт позволил лучше овладеть этой фантастической областью хирургии. Совершенствуется терапия, необходимая после пересадки, улучшается уход за больными, и все равно мы ощущаем повседневную нехватку доноров. Хотя совершенно ясно, что при донорстве органа после смерти человека стоящие на очереди пациенты благодаря ему получают жизнь.
Рассказ Шарлотты Валандре о пережитом увлекателен. Он заставляет нас задуматься о непрерывности жизни, об эстафете, о передаче органа от донора реципиенту. Ее стремление установить связь со своим донором и его близкими сильно и пронзительно, оно еще раз подчеркивает, какой символикой нагружена кардиотрансплантация, ибо сердце – гораздо более, чем какой-либо другой орган, – с незапамятных времен несет на себе груз эмоциональных ассоциаций. Подарить надежду, подарить жизнь, согласившись отдать свое сердце после смерти другому человеку, – верный способ оставить что-то после себя, шанс стать звеном в цепочке человечества. Свидетельство Шарлотты Валандре, ставшей символом этого завета надежды, приоткрывает тайну удивительной передачи жизни. Она показывает нам новые грани мира кардиологической трансплантации и убеждает стать соратниками в ее борьбе.
Жерар Хельфт,
профессор кардиологии
Объединения парижских больниц
Париж, ноябрь 2005 г.
Мне снился сон – навязчивый, неотступный, яркой вспышкой стоявший у меня перед глазами в ночи, когда я просыпалась от собственных криков. Я умирала. Все, конец.
Последнее потрясение, случившееся через два года после пересадки сердца, стало для моего потрепанного мотора фатальным. Третий инфаркт, и на этот раз – последний, «Большой взрыв». Вечно выживать невозможно.
В начале сна все казалось правдивей некуда. Парализующая боль, охватившая тело, всю руку вплоть до помертвевших пальцев, внезапно пронзившая меня мечом, потом слабость, как будто тело тает и растекается, и черная дыра, воющие сирены машин, от которых бегут мурашки по коже, как от скрипа мела по доске.
Потом суета в кардиологической реанимации и трубки, торчащие из меня, как прозрачные бандерильи, воткнутые в еще двигающееся тело. Вокруг – стеной экраны, контрольные мониторы жизненных параметров. Похоже на телевизионную студию. А что сегодня снимаем? Твою смерть. Дубль будет только один.
Со звуком что-то не так, и суматошное попискивание звенит у меня в ушах. Кроваво-красные цифры вдруг начинают мигать, вырастают в гигантском масштабе на черном экране. Потом визг аппаратуры становится пронзительней, – это весть о том, что дела мои плохи. Распашные двери моей палаты хлопают, как двери заштатного салуна, люди без конца суматошно бегают взад-вперед. Это на самом деле не палата, окон нет, и пол покрыт каким-то пластиком, с которого легко стереть любую жидкость. Махнул тряпкой – и никаких следов, везите следующего.
Меня привезли сюда не спать, а выживать, выкарабкиваться – вот прямо сейчас.
Вокруг меня суетятся люди. Значит, в этот раз все серьезно.
Странный это сон, необычный. Каждый образ в нем окружен золотистым ореолом, как на тех иконках, которые я в детстве хранила у себя в коробке с сокровищами.
Я вижу отца, застывшего в молчании, и Лили, мою закадычную подругу, с глазами, полными слез. Только не плакать! Но что же тут происходит?
Вшитое мне сердце бьется со скоростью всего тридцать ударов в минуту, потом двадцать девять, двадцать восемь, двадцать семь, давление падает. Мой организм решил все же отторгнуть инородное тело.
– Она умирает! – внезапно кричит отец. – Делайте что-нибудь, черт побери!
Давно уже отец так не выходил из себя. Я сто лет не слыхала, чтобы он так кричал, просто вопил, беспокоясь за меня. Приятно. Почаще ори, папа, кричи от души во весь голос. Крикни еще раз, что ты любишь меня, несмотря на все мои заморочки, и сними ты пальто, оно все в снегу, – простудишься.
Мой бедный голубоглазый папа, мой седовласый красавец Кен, яркий и светозарный, как небо Бретани. Он все еще не теряет надежды. Он столько раз видел меня слабой, истощенной, полуживой, дошедшей до края, а потом возрождающейся, что привык к своей дочке-фениксу Однако синусоида биения моего сердца потихоньку распрямляется – я вижу ее на аппарате, который отражается в висящем над раковиной зеркале. Не видно больше четких жирных кривых, уверенных взлетов и падений. Нет, белая линия ползет по экрану и извивается лениво, как старая змея. Я закрываю глаза.