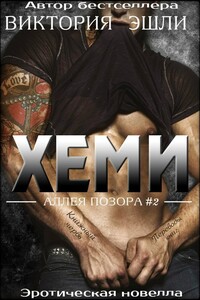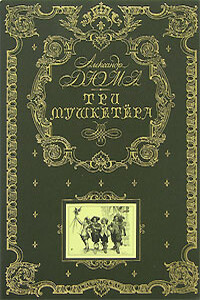Март — август, 2012
Зимa
Маленький, обозлённый ветер — не ветер даже ещё, а поветрие, первое поветрие наступающей стужи — зернистою изморозью стягивал растрескавшиеся губы, тугой холодной спиралью пеленал, обматывал голову. Расплющивал слёзы в хрупкие пластинки, вдавливал их обратно в глаза.
Этот день был горящим ручьём в чёрно-белой зиме 56-го, ручьём из зажжённых свечей, сливавшихся в длинное пламя.
Выходили без шапок, растерянные, потные, из тёмной часовенки в расплывы тусклого солнечного света, размноженного миллионом снежинок. Идти было трудно, земля выгибалась, скользила у них под ногами. И прозрачный звон качался в расщелинах неба, заросшего льдом.
Из узкого прямоугольника двери под куполом с перебитым крестом било пламя. Стекало по ступенькам, усыпанным солью c опилками. Переливалось, змеилось по угреватому от фабричной копоти насту между иероглифами хрустальных сучьев, между стёршихся позолоченных слов на плоских камнях и упиралось в другой, страшный, прямоугольник, обведённый жирною рамою из жёлтых комьев. Четверо бородатых, со сверкающими, стеклянными лысинами, стояли по углам, расставив ноги и тяжело опираясь на воткнутые в землю заступы.
Красный гранёный ящик, словно кусок спрессованной крови, проплывал над горящим ручьём. У тех, что шли впереди, пылали отмороженные лица. Холод, спустившийся с неба, тонкими иглами входил в их тела, ломался в промёрзших венах. Тени цеплялись друг за друга, опускались на дно, белое дыхание идущих — видимая часть притаившихся душ — висело над ними.
И нахохлившиеся грачи, веками охранявшие здесь каменные плиты, смотрели на них в упор, вцепившись в чугунные ограды трёхпалыми когтистыми лапами.
Они шагали, наполненные скорбным бесчувствием, — так и будут они теперь шагать через всю мою жизнь — с трудом отдирая от изъеденных ржавчиной решёток мгновенно примерзавшие к ним голые зрачки. Вытягивали перед собою разбухшие рукавицы, в которых бились рваные клочья огня, не дававшего света. И молчание их было как обледеневший наст, застилавший, выравнивающий землю вокруг.
Последним брёл, тяжело спотыкаясь о корявые тени, торчавшие из снега, шестнадцатилетний человек в беззащитно коротком драповом пальтишке. У него ещё не было ни знания, ни памяти. От камней с позолоченными словами — словами слишком большими для жизни — шёл тихий свет, и те, кто лежали под ними, опускались всё глубже в холодную почву. Завывал, раскачивая пламя в руках, голосил уныло и страстно сразу со всех сторон порывистый ветер. Острыми кристалликами снежного солнца царапал щёки, обжигал, застревал хрипеньем в простуженном горле.
Тело его продолжало идти по скользкому насту, но сам он сейчас опять стоял неподвижно в часовенке с забитыми окнами, стиснутый многоголовою распаренною толпою. Перед глазами качались согнутые спины, но видел он раздувшееся лицо с подвязанной челюстью на белом атласном изголовье. И лицо это было, как сургучная печать на ящике, увитом металлической зеленью с чёрными лентами. Одинокая лампочка свисала на голом шнуре. И выше, по куполу написано было над нею: «Буду плакать я перед Господом». Дремучий священник, окружённый густою безблагостной тишиною, скороговоркой отпускает душу. Кладёт в ладонь уходящему дощечку с разрешительной молитвой. Тоненькая страдальческая жилка бьётся у него на шее. Серебристая тень промелькнула над только что заколоченным ящиком, и исчезла сквозь невидимую щель в куполе. Намертво зажав в кулаке свою подорожную, плывёт к выходу незнакомое тело, огранённое красными досками. Плывёт туда, где должно истончиться, исчезнуть всё бывшее плотью.
Ручей, и внутри его сгорбившийся человек в драповом пальтишке, без шапки, с волосами, поседевшими от инея, стекали в широко распахнутую дверь, обозначенную жёлтыми, со слюдяными прожилками, комьями. Не в дверь даже, а в дверной проём, который охраняли четверо вооружённых огромными заступами стражников в замызганных ватниках с торчащими из карманов бутылками.
Над ровным, будто гашёною известью выжженным полем, над плитами облицованными инеем, плыл воздух, хранивший форму красного ящика. Светился скол тусклого неба, наполненный оловянным солнцем. Голосил, надрывая связки, метался зигзагами ветер. И окаменелый дым из кирпичной трубы, правильной безнадёжностью проткнувшей насквозь горизонт, стелился вдали над городом, над краем всего, что было.
Не могу понять, почему даже сейчас, через столько лет, мне становится так одиноко, когда вспоминаю об этом?
Весна
Шли, нагруженные бутылками, по прозрачному лесу, раздвигая густой частокол из солнечных лучей и смахивая с лица паутину. И женщина, в теле которой жил ребёнок, шла вместе с ними. Вокруг шелестели берёзы, гордо выпячивали перед ними свои зелёные животы на запелёнутых чёрно-белою берестою стволах. Серебристая весёлая речка плавно кружилась среди белобрысых лопухов, хвощей и крапивы, обнимала блестящими излучинами валуны. И журчание речки казалось прерывистой речью — захлёбывающейся речью недавно воскресшего леса.
Расположились на лужайке, окружённой кустами, у самого берега Медного Озера. Его белая кромка и заросшие камышами топи были уже оплавлены утренним солнцем. На маслянисто-тёмной воде уютно плескались цветные пластинки. Одинокая лодка без гребца и без вёсел качалась в покрытом патиной купоросовом зеркале между сбившимися в тучи клочьями тьмы. Над ней, как одноглавый герб в толще балтийского неба, парил, распластав свои хищные крылья, неподвижный ворон.