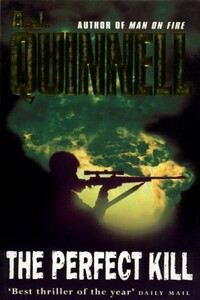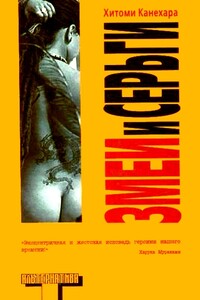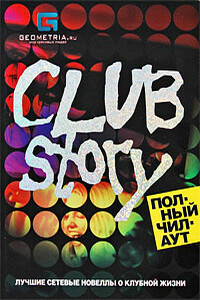В сумерках к городу подошли два красных бронепоезда и гулко забили из своих пушек по тишине, впервые наступившей было после долгой канонады весенних боев. За оградой городского парка, напротив окна Клавиной спальни, стоячей метелью осыпалась от страха цветущая сирень. Рыхлые песочные дорожки еще сохраняли воду упавшего минувшей ночью с невообразимой высоты дождя. Клаве казалось теперь, что это — последний дождь ее прошлой жизни, а что с ней будет теперь, она не знала. Мать еще со вчерашнего вечера позадергивала все окна шторами, они здесь были какого-то пугающего, темно-бордового цвета. Зачем мать закрыла окна, Клава никак не могла понять, все равно уже не было никаких надежд, поезда две недели как перестали ходить, и выбраться из города стало невозможно, а позавчера начали отступать войска, хотя никто до самого конца не верил, что они уйдут. Но они уходили, бесшумно, словно рабочие в театре, установившие на сцене новые декорации, мать же бродила по дому с покрасневшими от слез глазами и вытирала несуществующую пыль, перебирала платья, и зачем-то укладывала часть из них в чемоданы, аккуратно подворачивая рукава. Таня постоянно была у себя, не выходила из комнаты, наверное, писала в дневнике. Она уже второй год вела дневник, каждый день записывая туда все, что происходило, начиная со дня гибели их старшего брата Александра на германском фронте зимой шестнадцатого года, с тех пор Таня писала изо дня в день, тетрадку за тетрадкой, и, когда семья Орешниковых бежала из Москвы на запад, Таня оставила на старой квартире почти все свои вещи, только тетрадки напихала в саквояж. Клава вспомнила, притаившись на стульчике за шторой, как они бежали из Москвы, в битком набитом поезде, Клава никогда не видела столько людей в таком тесном месте, до этого она считала, что больше всего людей бывает в театре, но в поезде их было куда больше, они сидели на своих вещах и даже друг на друге, многие плакали, особенно одна женщина в шляпке, сидевшая у самого окна, она плакала очень жалостно, словно человеческие тела сдавили ее до физической боли. Если бы не отец, им никогда бы не сесть в тот поезд, отец был одет в выходной костюм, и в карманах костюма у него повсюду были деньги, он постоянно вынимал их и раздавал всем: извозчикам, носильщикам, кондукторам и еще каким-то людям, которые вроде бы просто стояли на вокзальной платформе и ни у кого никаких денег не просили.
Услышав за дверью торопливые шаги матери, Клава повернулась на стуле к столу, где лежала раскрытая книга, но мать не зашла к ней, а спустилась лестницей в гостиную, откуда вскоре раздались голоса, ее и Марии Дмитриевны, хозяйки дома. В городе сейчас стояла такая тишина, что, казалось, только они и остались в нем, они и бронепоезда красных, подошедшие к окраинам, а если это действительно так, значит, красные стреляют именно по ним, только не знают, в какой точно дом бить. Клава опять повернулась к окну и выглянула из-за края шторы. На улице по-прежнему никого не было. В воздухе противно свистело и с размаху стукало где-то по земле, отчаянно звенели стекла.
Потом раздался страшный грохот — наверное, рухнуло какое-то большое здание, и Клава от страха побежала и спряталась в шкафу. Если дом обрушится, рассчитала она, буковые стенки шкафа спасут ее от ударов камней. В шкафу с закрытыми дверями стрельба была слышна хуже, не так близко, будто обычная канонада, и Клава немного успокоилась, она стала тихонько грызть ногти на одной руке, прижав ее ко рту, а другой рукой она неспешно лазила в карманы висящей одежды, надеясь найти там что-нибудь случайно забытое. В шкафу она не услышала, как в комнату вошла мать.
— Клава? — спросила мать. — Ты тут?
— Я здесь, мама, — Клава вылезла из-за буковых дверей.
— В домик играешь, — улыбнулась мать, но улыбка вышла у нее какой-то сжатой, словно она силилась не заплакать. — Собирай вещи, нам нужно уезжать.
— Уезжать? На поезде?
— Да-да, мы вчера с Марией Дмитриевной договорились, что нас вывезут в санитарном вагоне. Там, на вокзале, еще есть солдаты. Одевайся быстрее, через пятнадцать минут за нами приедет извозчик.
— А Мурзик тоже поедет?
— А как же, конечно. И Мурзик поедет, никто не оставит Мурзика. Одевайся скорее. Ты знаешь, платья придется, наверное, бросить. Когда все уладится, мы вернемся за ними. А сейчас нет места, в этом поезде едут раненые, и там совершенно нет места. Поэтому возьми только свой чемоданчик, только самое необходимое. Хорошо?
— Хорошо.
Мать порывисто притянула Клаву, уткнув ее носом себе в грудь.
— Не бойся, не бойся. Никак нельзя, невозможно было уехать раньше. Но теперь мы обязательно уедем.
Клава сожмурилась и беззвучно заплакала, сама не зная, отчего.
Никаких извозчиков в городе больше не было, потому что лошади пугались пролетавших снарядов и не стали бы везти. Вещи пришлось нести в руках, благо что вокзал был недалеко от дома Марии Дмитриевны. Соседние с вокзалом улицы были оцеплены солдатами, без пропусков не пускали, то есть Марию Дмитриевну пускали, а Орешниковых нет. Наконец все уладилось, и они побежали, волоча за собой багаж, потому что поезд мог теперь отойти в любую минуту. Они бежали через вокзальную площадь, иногда застревая в толпе, тут стояло несколько бричек, лошади беспокойно ржали, словно их мучила какая-то неведомая, небесная боль. Они уже были как раз посередине площади, на открытом месте, когда ударил снаряд. Сперва возник нечеловеческий, гнетущий к земле свист, и Клава сразу поняла: вот Оно, снова прорвалось, и ужас, как это бывало уже прежде, сжал ей сердце, не пуская в него кровь. Свист застыл на пронзительной сверхъестественной ноте, а потом сорвался и страшным грохотом ударил в землю, таким страшным, что все то, чем Клава считала ранее саму себя, перевернулось и упало в безвоздушное пространство, и при этом Клава не перестала чувствовать, и даже не перестала дышать, только перестала помнить, зачем она в данный момент находится на свете именно там, где находится. Удар снаряда сопровождался разрывом той среды, где обитает человеческий слух, из-за этого и получился такой противный визг, люди метнулись во все стороны, сбив Клаву с ног, она упала на чей-то чемодан, набитый, по всей видимости, одеждой, и распоротое свистом небо швырнуло на нее какого-то тяжелого взрослого человека, который завалил Клаву своим телом, от человека пахло табаком и туалетной водой, потом закричала лошадь, резко, как огромная птица, готовящаяся взлететь, и крик этот перешел в повторный пронзительный свист, за которым ударил второй снаряд, с каменным хрустом и грохотом, из чего Клава, судорожно пытавшаяся выбраться из-под упавшего на нее мужчины, поняла, что на этот раз удар пришелся в здание вокзала. Она зажмурилась, будто ждала, что осколки разбитого кирпича сейчас посыпятся ей в глаза, но продолжала отчаянно, буквально с остервенением выталкиваться из-под чужого тела, которое пьяно и бессмысленно хрипело ей в лицо душащим воздухом, воздухом этим Клава не могла дышать, вероятно, нечто испортилось внутри небесного человека, прохудились какие-то клапаны, может, прорвалась какая-нибудь стенка, и воздух шел не оттуда, откуда ему положено было идти, нечто страшное примешивалось к нему, мужчина непонятно двигал руками и ногами, открыв рот на недобритом лице, и когда Клава наконец освободилась от него и принялась искать глазами мать и сестру в мечущейся толпе, мужчина продолжал двигаться на поверхности мостовой, не поднимаясь на ноги, как какой-нибудь краб.