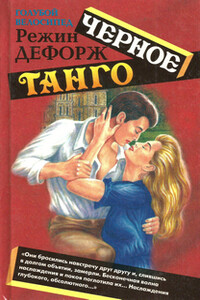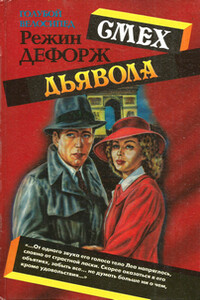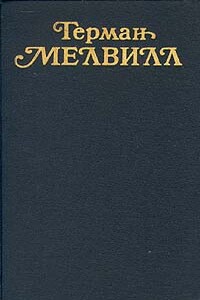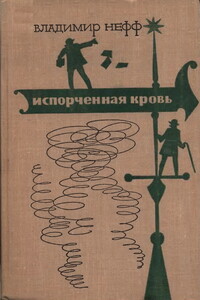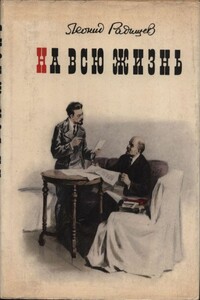В первую минуту Леа не поверила своим глазам и замерла на дорожке. Навстречу ей шли двое — высокий красивый мужчина и маленький мальчик. Франсуа?! Шарль?! Да это были они — здесь, в Монтийяке, в том самом Монтийяке, который она считала полностью разрушенным, и где теперь раздавался звон плотницких пил, стук молотков и песня рабочих:
Каменщик песню пел
На крыше, там, где сидел…
Ее дом восстанавливался…
У нее радостно защемило сердце от мысли, что именно Франсуа Тавернье позаботился о восстановлении дома. Не в силах сдвинуться с места, она смотрела на своего вновь обретенного возлюбленного. Он жив, жив и жадно глядит на нее, ошарашенный, потрясенный… Франсуа шагнул было ей навстречу, но Шарль опередил его. В волнении Леа крепко обняла ребенка, бормоча что-то ласковое и бессвязное. Потом, слегка отстранившись, опустилась на колени, чтобы лучше его рассмотреть. Как же он вырос! И как похож на свою мать! При воспоминании о Камилле у нее вырвался стон.
— Тебе плохо? — с тревогой спросил осиротевший мальчик.
— Нет, мой милый, я так рада снова увидеть тебя…
— Тогда почему же ты плачешь?
Как объяснить пятилетнему ребенку, что плакать можно не только от горя, но и от радости?!
Еще один белокурый малыш цеплялся за ее юбку, а рядом с ним стояла молодая женщина в платье в цветочек. Оно напомнило Леа платье, которое носила ее мать в предвоенное лето.
— Франсуаза?..
Сестра бросилась к Леа на шею, осыпая ее поцелуями. Потом Леа по очереди расцеловалась с модницей Лаурой, с тетушками Лизой и Альбертиной, чьи лица так и светились от счастья, и наконец, с Руфью, милой Руфью, неизменным воспоминанием детства, теперь постаревшей, сгорбленной, с трясущимися руками… Леа переходила от одной женщины к другой, почти не осознавая себя, как будто и поцелуи, и объятия, и ласковые слова предназначались не ей. После того, что она увидела в разрушенном Берлине, в поверженной Германии, ей казалось невероятным, что можно вновь очутиться на этой земле, в этом имении, куда она еще недавно и не надеялась когда-либо вернуться.
Но постепенно и счастье возвращения, и радость, охватившую ее при виде Франсуа и Шарля, как бы заволокло туманом в ее сознании. Все это — иллюзия, шутка или маскарад, а люди — всего лишь призраки… Почему эта бритая, размахивающая руками женщина надела платье ее матери? А что тут делает эта размалеванная девица, весьма схожая с проститутками высокого полета, посещавшими немецких офицеров в барах Бордо?.. Зачем привели этих крикливых, перепачканных ежевичным соком детей?.. А что надо этим старым, одетым в черное женщинам, похожим на богомолок из Сен-Макера?.. И этому человеку с грубыми чертами лица и с ироничной улыбкой на губах? Почему он вообще улыбается? Что он здесь находит забавного? И почему он ее так разглядывает?! В ней постепенно поднималась волна крайнего раздражения, от которого путались мысли. Ну, конечно же, никогда, никогда ей не следовало ступать на эту землю, где все разрушено, замарано, умерщвлено!.. Она ждала, что из грабовой аллеи с минуты на минуту покажется Морис Фьо со своими молодчиками. В ушах Леа звучали крики и стоны, а доносившийся до нее стук плотницких молотков она принимала за удары ружейных прикладов, которыми вышибали двери ее дома… У террасы стелился дым от сожженной травы, но для нее это был дым от тела тети Бернадетты, сожженной огнеметом…
Леа с силой оттолкнула от себя кольцо женщин и детей. Нет, им не удастся ее провести, она не позволит себя обмануть…
Леа бросилась бежать. Ее тетки и сестры в изумлении смотрели ей вслед. Один лишь Франсуа Тавернье понял, что испытывала девушка.
Леа летела через виноградники, как обезумевшее животное, спотыкаясь на неровной почве, падая, поднимаясь и снова падая… Их разделяло всего несколько шагов, когда она, наконец, заметила его, но не узнала. Одна мысль билась в ее помутившемся сознании: «Им не удастся меня провести, не удастся!..» Ужас и ненависть удесятеряли ее силы. Она понеслась еще быстрее. Когда она пробегала мимо дома Сидони, ей послышался голос Матиаса… Она помчалась дальше по дороге, ведущей к часовне на вершине холма Верделе, — тайному приюту, где она изливала свои детские жалобы, терзалась грустными отроческими сомнениями, поверяла, будучи уже взрослой девушкой, свои страхи перед лицом войны и смерти. Она ободрала руки, продираясь через колючий кустарник, и на четвереньках принялась карабкаться на вершину холма. Тут ее настиг Франсуа, и между ними в полном молчании завязалась борьба. Тавернье пришлось применить всю свою силу, чтобы не дать Леа расцарапать ему лицо. И только почувствовав, что она, наконец слабеет, он, желая ее успокоить, пробормотал:
— Тише, тише, малышка, не бойся… Со всем этим покончено, успокойся… Любовь моя, никто больше не причинит тебе зла, обещаю.
Постепенно Леа стала приходить в себя. Она закрыла глаза и представила себе, что ей всего восемь лет и что ее убаюкивает и утешает отец после того, как она, упав, больно ушиблась… Она прижимается к его груди, ее рыдания затихают, боль успокаивается. Отец берет ее на руки и несет в кровать.
Франсуа уложил Леа на траву в тени дуба. Совсем как ребенок, она тотчас же уснула, не выпуская его руку. Это напомнило ему их редкие проведенные вдвоем ночи, когда после близости она вдруг засыпала, не договорив начатую фразу. Такое внезапное погружение в сон позволяло ей быстро восстанавливать силы.