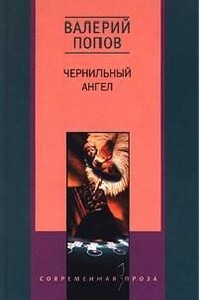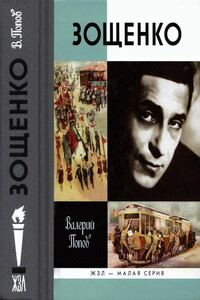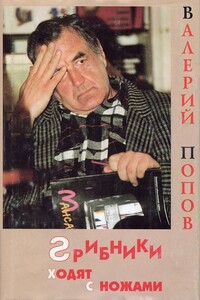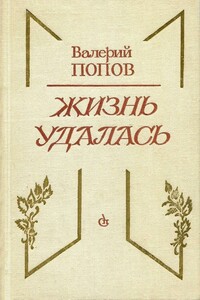П оставив точку, я откинулся на стуле и, выплывая из вымысла, огляделся. Убогая дачная комнатка освещена низким вечерним солнцем, выпуклые крошки под обоями дают длинные тени. Тишина.
Покой. Счастье. И никого в доме. Эту минуту блаженства я заслужил.
Я выкрутил лист из машинки, сбил пачку листов ровно и положил встол.
Вышел в палисадник, отцепил с веревки просвеченные солнцем бордовые плавки. И тут все было тихо и торжественно. Розовые стволы сосен. И ни души нигде – ни здесь, ни у соседей. Сцена снова свободна! Все прежнее кончилось и лежало теперь в столе, а новое не спешило пока появляться. И правильно – должна же быть минута покоя и торжества… Ну, хватит.
7Стиснув упругие плавки в кулаке, я вышел из калитки. Наш Крутой переулок, освещенный тихим вечерним светом с верхнего его конца, спускался желтым песчаным скатом к оврагу. Дом, где я сейчас жил, был самым последним, на краю оврага. Вверх уходили дома людей более важных- чем выше, тем важней. Но сейчас я и у себя внизу был на вершине счастья.
По сырым ступенькам, вырытым в склоне оврага, я постепенно, по частям спускался во тьму. И вот – освещенные листья перед глазами исчезли. Зато сразу потекли запахи – они почему-то любят тень. Щекочущий ноздри запах крапивы сменялся гнилым, болотным.
Когда-то, еще в финские времена, здесь была глубокая речка – говорят, до самого края нынешнего оврага. Но после успешного прорыва плотины она превратилась в мелкий ручей – коричневый, как крепкий чай, но чистый и холодный. Присев, я потрогал воду рукой. Ледяная! Сдвинул с себя одежду на мостик, сложенный из трех досок, натянул плавки и лег в ручей. Если лежать в нем плоско, он как раз обмывает уши, а рот и нос- над водой. Небо отсюда, из темноты, казалось очень высоким и узким, как, наверное, из могилы – если оттуда что-то можно увидеть.
Неподвижное кудрявое облачко стояло в аккурат надо мной. И вдруг по воде донесся какой-то удар и гул, а потом прикатилась волна и нашлепнулась на лицо. Что-то где-то упало в воду – причем чувствовалось, что-то очень крупное и с большого размаху – с неба, что ли? Ручей растекался и открывался у железнодорожной насыпи… там, наверное? Потом стал наползать какой-то смутно знакомый, волнующий запах. Что это? Многие запахи, в отличие от красок, не имеют названий, поэтому действуют не на сознание, а на подсознание… Что это льется по мне, булькая и щекоча?
Пожалуй, подумал я, уплывая в негу, лучше это не называть и не объяснять, пусть останется смутным, неясным блаженством – будем считать это лаской небес.
И все! Я поднялся из воды. Главное – не утонуть в блаженстве окончательно: окунулся – и все! Обсыхая на бегу – как тепло наверху, даже жарко! – я вбежал в темную комнату, уже покинутую солнцем, и улегся спать.
Проснулся я так же резко, как и заснул. Состояние вчерашнего блаженства протянулось и через сон, и какая-то сладкая ломота в суставах осталась и теперь.
Утро было ясное. Граница солнца и тени делила пустой заросший двор точно по диагонали, и единственное растение во дворе – высокий, почти с человека, серо-зеленый куст спаржи – было ровно поделено пополам.
Ну все – праздник кончился. Чайку – и к станку!
Застилая постель, я снял с дивана простыню, встряхнул – вечно насыпаются крошки! – потом, дернув за углы, растянул полотнище – и обомлел.
До чего же грязная простыня – в бледных, еле различимых пятнах, причем какого-то странного фиолетового отлива. Откуда бы? Я даже вышел с простынею в руках из темноватой комнаты в солнечный двор, чтобы понять эту загадку, – но на свету она стала еще загадочней. Я вдруг различил, что это не просто бледные пятна, а отпечатки чьего-то тела: вот спина, зад, затылок (или лоб?), отдельно – раскинутые словно в полете руки и ноги. Кто лежал на моей простынке и отпечатался на ней?
Или… это я сам? Но – как? Что за странная субстанция выделилась из моего тела? Тут я не мог найти никаких аналогий, кроме самых возвышенных. Только лишь Одному, самому знаменитому, удалось так отпечататься безо всяких красок. Но человек ли Он был? Знаменитая простыня, названная Туринской плащаницей, с отпечатком Его тела – и вот это скромное изделие местных ткачей, тоже с отпечатками… К чему бы это?
Подумав в этом направлении, но так ничего и не решив, я растянул простыню по веревке на прищепках – пусть повисит. Просохнет, глядишь- и все исчезнет: пятна явно влажные на ощупь. Просохнет!
А цвет какой-то жутко подозрительный, мучительно знакомый… цвет фиолетовых чернил! Неужто я за годы своих писаний так пропитался чернилами, что теперь их выделяю? Истраченные мною чернила слились с душой, и душа моя, вылетая на ночь, оставила отпечаток?
– Точно! – вспомнил я. – Во сне летала она, оставив тело, над каким-то оврагом, и как сладко было летать и не падать!
И отразилась она на простыне как бы в полете – летит, наклоненная по диагонали.
Ветер надул простыню, как парус… точно – летит!
Рядом раздалось знакомое покашливание. В городе, сидя дома за столом, я слышу его за квартал, сквозь стук своей машинки и вой машин.