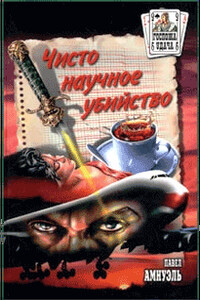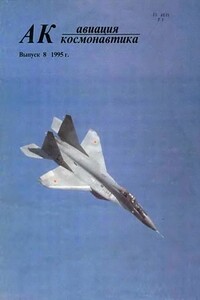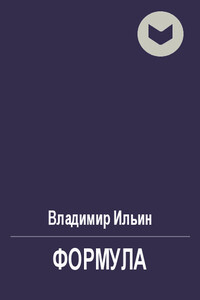>Иллюстрация Владимира ОВЧИННИКОВА
На набережной Утоквай она часто встречала старика, одетого в длинное пальто — холодное зимой и слишком теплое летом. Сутулый, с нечесаной седой гривой, он брел вдоль берега, ни на кого не обращая внимания, и что-то бормотал себе под нос. Поравнявшись с ним, она всегда говорила: «Добрый день, герр профессор», — хотя не знала, был ли старик рассеянным ученым или неопрятным бродягой.
Сегодня старик не встретился. Может, потому что она пришла не одна?
— Посидим здесь? — обратилась она к своему спутнику и, не дожидаясь ответа, присела на ажурную скамью, подобрав оборки платья.
Ее спутник сел рядом — не так, как она, не на краешек, а основательно, — откинулся на гнутую спинку, прищурился (солнце, стоявшее довольно высоко, светило в глаза) и сказал:
— Двадцать шестого я отплываю в Англию из Остенде.
— Вы, — поправила она. — Вы отплываете. С Эльзой.
Он молча разглядывал далекие крыши домов на противоположной стороне озера.
— Ты не захотел повидаться с Тете, — осуждающе сказала она.
Он наконец ответил:
— Не думаю, что это было бы полезно для нас обоих.
— Полезно, — повторила она с легким презрением. — Ты весь в этом слове. Тебе не приходило в голову, что Тете хочет увидеться с отцом?
— Не будем спорить, — терпеливо проговорил он и положил ладонь ей на колени. Она не ожидала этого жеста, означавшего, возможно, попытку примирения, может быть, просьбу о прощении или, на худой конец, знак понимания, которого не было между ними долгие годы — точнее, четырнадцать лет и два месяца. Она подсчитала мгновенно: столько времени прошло после того, как ей пришел по почте конверт федеральной службы, в котором лежало двумя днями ранее подписанное ею свидетельство о разводе.
Она не убрала руку, только посмотрела удивленно в его глаза. Он не отвел взгляда, смотрел изучающе, напряженно. Ей знаком был этот взгляд: он размышлял о чем-то, не имевшем отношения к реальности, думал о том мире, который всю жизнь хотел понять.
— Ты снова на перепутье? — спросила она. — Тебя беспокоят открытия Хаббла? Я иногда просматриваю научные журналы. Это не ностальгия, мне просто интересно.
— Нет, — он покачал головой. — Хаббл меня не беспокоит. Я написал об этом статью в «Нахрихтен», она должна была выйти в июне, но ее выбросили из номера… Ты слышала, я отказался от звания и гражданства?
— Кто же не слышал? — она все-таки сделала движение, и ему пришлось убрать ладонь. — Об этом писали газеты, а фрау Молнаг…
— Неважно, — прервал он рассказ, который мог затянуться. — Скажи лучше вот что: если ты иногда читаешь научные журналы, то знаешь… думаю, ты не могла это пропустить… ты всегда этим интересовалась…
— Да, — кивнула она, поняв, что он хотел сказать, прежде чем ему удалось сформулировать вопрос, чтобы он прозвучал не напоминанием о невозвратимом, а всего лишь желанием обсудить новую проблему теоретической физики. — И мне это уже не кажется странным.
— Странным, — повторил он, изобразив непонимание. — Что именно?
— Все, что было тогда.
— Тогда… У нас было много разных «тогда».
— Хочешь поговорить об этом? — спросила она спокойно, но он ощутил в ее голосе глубоко скрытое напряжение, а значит, говорить об этом не нужно, и вернулся к теме, занимавшей его последние месяцы.
— Мир меняется, — сказал он. — Мир становится все более неопределенным и грубым. Такое ощущение, будто квантовая неопределенность играет роль и в тезаурусе человеческих страстей. Никогда не знаешь заранее, чем закончится даже простой разговор о погоде, — пожаловался он, и она вспомнила прежние баталии, когда в их берлинскую квартиру приходили друзья, тоже физики, а иногда не только. Разговоры, громкие, как военная музыка, велись далеко за полночь, и никто не знал, к чему приведут эти яростные споры, тем не менее он был прав в своих ощущениях: она всегда знала, что произойдет потом, когда все мысли окажутся высказаны, все слова произнесены, гости и хозяин (сама она никогда не присоединялась к мужчинам, хотя ей было что сказать) в изнеможении сникнут, бросая друг на друга усталые и злые взгляды.
— Тебя это выводит из равновесия, — улыбнулась она одними губами.
— Да! — воскликнул он. — С тех пор как мы перестали чувствовать друг друга, я потерял ощущение правильности того, что делаю. То есть…
— Я понимаю, — прервала она его. — Это заметно по твоим работам, и удивительно, что никто из твоих биографов не обратил внимания на даты.
— Никому не пришло в голову, — усмехнулся он, — сделать самое простое.
— Ты хотел простоты, а получил обыденность.
— Я не жалею, — твердо произнес он, и она на секунду отвернулась, чтобы он не заметил выражения ее лица.
— Мне тоже не о чем жалеть, — сказала она. — Но ты не за тем приехал, чтобы вспоминать то, чего никогда вспоминать не хотел, верно?
Крыши домов на противоположной стороне Цюрихского озера сверкали на солнце и выглядели отсюда, с набережной, нотными знаками, зримой музыкой, которую можно было прочесть.
— Кванты, — сказал он. — И умные люди, замечательные ученые. Бор. Гейзенберг. Шрёдингер. Умнейшие. Но уводят физику с пути ее.
— Кванты, — удивленно повторила она. — О чем ты? Премию ты получил именно за разработку квантовой теории.
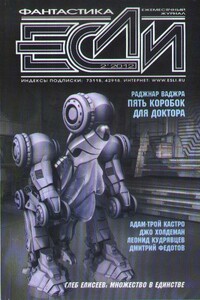


![Расследования Берковича 7 [сборник]](/storage/book-covers/03/0383a316dc5c525eb624f6e042ca718641bee739.jpg)