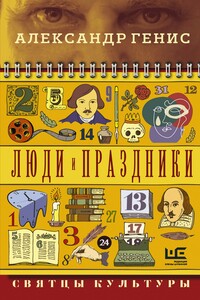Литература отличается от критики, как дальнее плавание от каботажного. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона велеречиво объясняет, что каботажным называется «плавание от одного мыса к другому, прибрежное плавание, совершаемое при помощи одних навигационных устройств кораблевождения и не требующее астрономических средств». Каботажное плавание, конечно, проще, надежнее, безопаснее. В открытом море легко потеряться, но только там можно открыть Америку.
Беда в том, что эра великих открытий кончилась. Карта вычерчена, а чтобы ее исправить, нужна самонадеянность гимназиста из Достоевского, который, как помнят читатели «Братьев Карамазовых», впервые увидев карту звездного неба, наутро принес ее исправленной. Тысячи романов, тасуя имена и обстоятельства, рассказывают одни и те же истории. Мы не придумываем — мы пересказываем чужое. Вымысел — это плагиат, успех которого зависит от невежества — либо читателя, либо автора.
Скука монотонности рождает неутолимую жажду оригинального, что уже само по себе оригинально. Потребность в новых историях — признак Нового времени. Большую часть своей жизни искусство удовлетворялось старыми, обычно очень старыми историями, например — библейскими. Поменяв универсальные, всем знакомые сюжеты на авторский вымысел, литература стала так популярна, что за несколько веков исчерпала ограниченный запас историй. В ответ на вызов печатного станка появился модернизм. Если реалист рассказывал истории, то модернист рассказывал, как он рассказывает истории. Постмодернист ничего не рассказывает, он цитирует.
Сегодня кризис традиционной — романной — литературы проявляет себя чудовищным перепроизводством. Никогда не выходило столько книг, и никогда они не были так похожи друг на друга. Маскируя дефицит оригинальности, литература симулирует новизну, заменяя сюжет действием. Скажем, секрет успеха автора ловких и дельных бестселлеров Джона Гришэма заключается в том, что у него что-то происходит буквально в каждом абзаце. Желая досмотреть, чем завершится эпизод, мы невольно переворачиваем страницу очередной книги (по-английски она так и называется — pageturner). При этом описательная активность не имеет прямого отношения к развитию сюжета. Это пляска на месте. Она не приближает нас к финалу и не задерживает перед ним, она важна сама по себе. Как факир кобру, писатель гипнотизирует читателя непрестанным движением.
Только этим можно объяснить многозначительный эпизод, который мне пересказала редактор одного московского издательства. В метро она заметила юношу, погруженного в пухлый боевик с развязной обложкой. Увлекшись, он громко чихнул и, не найдя платка, высморкался в еще не прочитанную страницу. Подобное обращение может с собой позволить только сочинение, лишенное композиционной структуры.
В сущности, это уже не литература. Подобные книги вываливаются из словесности в смежные искусства, связанные с видеообразами. Собственно, они и были созданы под влиянием кинематографа, который по своей природе оправдывает все, что движется. В этой ситуации литературная ткань становится сугубо функциональной. Такие книги пишут простым и удобным языком, который, как джип, надежно и без претензий перевозит читателя от одного действия к другому. Эти книги можно считать сюжетоносителем — точно так же, как называют энергоносителем бензин и рекламоносителем глянцевые журналы.
Зависимость книги от фильма сегодня достигла такого уровня, что первая стала полуфабрикатом второго. В Америке крупнейшие мастера жанра — Джон Гришэм, Стивен Кинг, Том Клэнси — пишут романы сразу и для читателя, и для продюсера. Даже герои их рассчитаны на конкретных голливудских звезд. В правильном бестселлере всегда есть роль для Харрисона Форда или Брюса Уиллиса.
Во всем этом я не вижу никакого ущерба для литературы. Добравшись до экрана — что малого, что крупного — беллетристика ничего не теряет, но много приобретает. Прежде всего, лаконичность и интенсивность. Все это относится отнюдь не только к непритязательным боевикам. Многие писатели, включая и маститых, вроде Доктороу и Апдайка, смиряются с тем, что кинематограф и телесериал лучше справляются с их ремеслом. Сегодня функцию романа, упаковывающего жизнь в сюжет, взяло на себя кино. Если сейчас и появится автор со свежей идеей, он либо сам отнесет ее в кино, либо она там окажется без его ведома. При этом ей, идее, это пойдет только на пользу. В елизаветинские времена из хороших историй делали трагедии, в XIX веке — романы, сегодня — фильмы.
Характерно, что Спилберг называет себя не режиссером, а именно storyteller — рассказчиком историй, претендуя — и вполне законно — на место, которое привык занимать писатель.
Союз беллетристики с экраном отнюдь не губителен для литературы. Напротив, он освобождает литературу для словесности, не способной существовать в симбиозе с другими. Поскольку на традиционном пути художественной литературе не перегнать конкурента, автор вынужден искать обходную дорогу, ведущую его к литературе нехудожественной (хотя, конечно, такую никто не станет ни читать, ни писать). На самом деле это бессмысленное прилагательное должно заменить универсальную англоязычную формулу, которая грубо и точно делит литературу надвое: fiction и non-fiction. К последней относятся не только научно-популярные сочинения, философские трактаты, путевые заметки, политические программы и кулинарные рецепты, но и, скажем, лирические стихи (к какой из двух категорий относится «Я помню чудное мгновенье»?), а также изящная, но небеллетристическая словесность: эссе, дневники, письма, филологическая проза, включая всевозможные «романы без вранья».