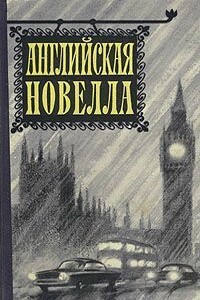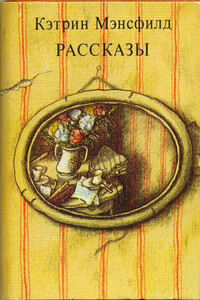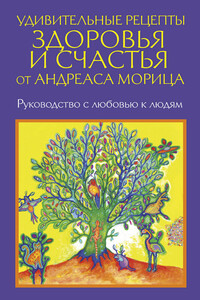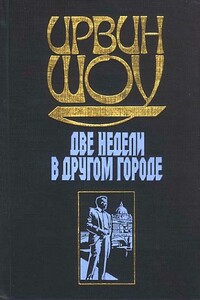Роузмери Фелл родилась не такой уж красавицей. Нет, вряд кто-то назвал бы ее красивой. Симпатичная? Ну, если разобрать ее по частям… Только… к чему такие жестокости — разбирать кого-то по частям… Она была молодая, блестящая, экстра современная, изысканно хорошо одета, удивительно начитанна — новейшими книгами из новейших, и ее вечеринки представляли собой очаровательную смесь по-настоящему важных людей и… художников — странных существ, ее находок, некоторые из которых выглядели настолько ужасно, что не стоит их описывать, а другие — вполне презентабельно и забавно.
Роузмери вышла замуж два года назад — за мальчика-душку. Нет, не за Питера или Майкла. И муж абсолютнейшее ее обожал. Они были богаты, на самом деле богаты, не просто хорошо обеспечены, хотя это звучит гнусно, душно и старомодно. Но если Роузмери хотелось пройтись по магазинам, она ехала в Париж, как мы с Вами пошли бы на Бонд-стрит. И, если ей хотелось купить цветы, машина тормозила у самого шикарного магазина на Риджент-стрит и в магазине Роузмери смотрела своим слепящим, весьма экзотическим взглядом и произносила:
— Дайте мне тех и тех, и тех. И четыре букета этих. И эту вазу с розами. Я возьму все розы из этой вазы. Нет, сирень нет. Сирень я не люблю. Она какая-то бесформенная.
Продавец кланялся и убирал сирень с глаз долой, как если бы ему открылась великая истина — сирень и вправду абсолютно бесформенна.
— Дайте мне вон тех маленьких тюльпанчиков на коротких ножках. Вон тех — красных и белых.
И до машины ее провожала тоненькая девчоночка-продавщица, шатаясь под непомерным букетом, завернутым в белую бумагу, будто несла на руках ребенка в длинной одежде…
Однажды зимним полднем Роузмери покупала что-то в маленькой антикварной лавке на Кёрзон-стрит. Любила она этот магазинчик. Прежде всего, потому что там ты всегда был единственным покупателем. И, во-вторых, владельцу безумно нравилось ее обслуживать. Он расплывался в улыбке всякий раз, когда она входила. Стискивал руки и так радовался, что едва мог говорить. Лесть? Конечно. Но все равно, что-то в этом было…
— Видите ли, мадам, — объяснял он, и его голос падал на низкие уважительные тона, — я люблю свои вещи. Лучше я вообще с ними не расстанусь, чем продам кому-то, кто не сможет их оценить, у кого нет того тонкого чувства, столь редкого…
И, глубоко вздыхая, он разворачивал крошечный коврик из синего бархата и прижимал его к стеклянному прилавку бледными кончиками пальцев.
Сегодня он приготовил для нее небольшую шкатулку. И никому еще не показывал. Восхитительная маленькая эмалированная шкатулочка с глазурью — такой изящной, что казалось, она сделана из крема. На крышечке под цветущим деревцем стояло едва различимое существо, чью шею обвивало ручками еще менее различимое существо. Ее шляпка, не больше лепестка герани, свисала с веточки — ленты, ленты. И розовое облачко, как бдительный херувим, проплывало над их головками. Роузмери освободила руки от перчаток. Она всегда снимала перчатки, чтобы рассмотреть подобные вещицы. Да, шкатулка ей очень понравилась. Она ее заобожала. Просто прелесть. Она должна ее купить. И, вертя кремовую малютку в руках, открывая и захлопывая ее, она не могла не заметить, как очаровательно смотрелись ее руки на фоне синего бархата. Продавец, в глубинных лабиринтах своего сознания, осмелился подумать так же. Она поняла это по тому, что он взял карандаш, наклонился через прилавок и его бледные, бескровные руки застенчиво поползли к этим розовым, светящимся пальцам. Он пробормотал:
— Осмелюсь обратить Ваше внимание, мадам, на цветочки на маленьком лифе у леди.
— Изумительно!
Роузмери восхитилась крошечными цветами. А… цена? Сначала продавец как будто не расслышал вопроса. Затем до нее донесся шепот:
— Двадцать восемь гиней.
Двадцать восемь гиней! Роузмери не подала вида. Поставила маленькую шкатулку на прилавок, застегнула перчатки. Двадцать восемь гиней. Даже если ты богат… Она сделалась рассеянной. Поглядела на пухленький чайничек, как пухленькая курочка, поверх головы продавца, и ее голос прозвучал мечтательно, когда она ответила:
— Ну, отложите ее для меня, хорошо? Я, пожалуй…
Но продавец уже поклонился, как если бы оставить шкатулку для нее было все, чего только может пожелать человеческое существо. Конечно, он с радостью будет держать ее для мадам — вечно.
Дверь осторожно захлопнулась, с щелчком. Роузмери оказалась снаружи, на ступеньках, вглядываясь в зимний день. Падал дождь и вместе с дождем наступала темнота, вращаясь медленно, как падающий пепел. В воздухе стоял холодный горький привкус и только что зажженные лампы казались грустными. Грустным был и свет в домах напротив. Окна горели тускло, как будто жалели о чем-то. Люди поспешно проходили мимо, спрятавшись под своими противными зонтами. Внезапно Роузмери ощутила острую боль. Она прижала муфту к груди и ей захотелось, чтобы с ней была сейчас и маленькая шкатулка — прильнуть к ней. Конечно, ее ждала машина. Нужно только перейти на ту сторону. Но она медлила. Есть такие моменты в жизни, ужасные, когда ты выходишь из убежища, выглядываешь наружу и это кошмарно. Не нужно этому поддаваться. Нужно ехать домой и выпить самого лучшего чая. Но именно в тот момент, когда она обо все этом думала, рядом c ней возникла молодая девушка, худенькая, темноволосая, словно тень, — откуда она взялась? — и голосок, словно вздох, почти, как всхлипывание, прошептал: