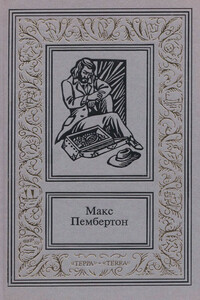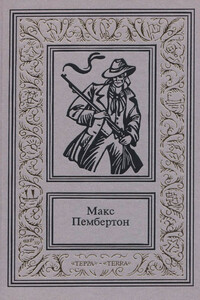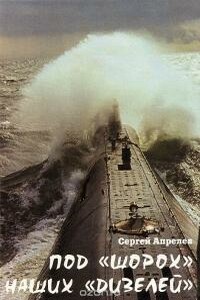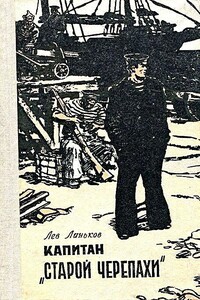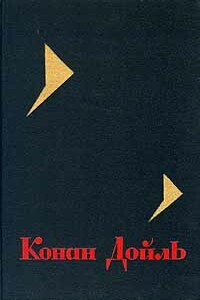I
Предисловие Тимофея Мак-Шануса, журналиста
Мой друг, доктор Фабос, познакомился с мисс Фордибрас на великосветском базаре, устроенном по случаю празднества в Кенсингтонском Тоун-Холле. Я прекрасно помню, что в тот вечер он хотел развлекать почтенную компанию из Гольдсмит-Клуба за свой счет.
– Мак-Шанус, – сказал он, – никто, кроме тебя, не сумеет заказать прекрасный ужин. Отправляйся на маскарад, и я приеду туда же. Не жалей денег, Мак-Шанус. Твои друзья – мои друзья. Я желал бы сохранить воспоминание об этом вечере... последнем в Лондоне до моего отъезда.
Нас было семеро, обедавших за его счет в Гольдсмит-Клубе, и все мы сели в один и тот же омнибус. Да будет вам известно, что вы не найдете ни одного человека, который не отдал бы справедливости замечательному гостеприимству Фабоса. Ночь была ясная и небо усеяно мерцающими звездами.
– Мы, что ли, платим за омнибус? – спросил мой друг Киллок, актер.
– Не оскорбляй в этот вечер самое великодушное сердце во всей Великобритании! – сказал я.
– И прекрасно, – сказал он, – человеку, который не платит, незачем заботиться о сдаче, – и с этими словами он вошел в Тоун-Холл.
Наша компания выглядела весьма колоритно. Мой старый товарищ Барри Хиншоу явился в бархатной охотничьей куртке и красном галстуке, что не очень пришлось по вкусу служащим театральной конторы. Сам Киллок, любимец дам, явился в жилете, так густо усеянном бриллиантами, что их хватило бы на целую брошь-хризантему. Все мы семеро, точно солдаты, выстроились у буфета, повернувшись спиной к танцевальному залу.
– Самое настоящее время для виски с содовой, – сказал Барри Хиншоу, знаменитый трагик.
– Стыдись, – сказал я ему, – не прошло и получаса с тех пор, как ты пил яд, известный под названием «кюммеля». Остерегайся напитков, Барри!
– О! – сказал он. – Ты, я полагаю, из одного места приехал со мной? – И затем прибавил: – Будь Фабос настоящий джентльмен, он присоединился бы к нашей компании и заплатил за нее. Самое ужасное на всех этих базарах заключается в том, что ты всегда потеряешь из виду человека с деньгами.
Я пропустил мимо ушей это дерзкое замечание, и мы занялись буфетом. Великосветский базар, как они его называли, был в полном разгаре. Красавицы, одетые пастушками, приняли было меня и друзей моих за овец, которых можно постричь, но величественные манеры наши и два шиллинга и десять пенсов в кошельке уменьшили их рвение, и они сделали поворот направо. Базар этот был устроен для моряков из Портсмута. Стоило купить пучок незабудок за десять шиллингов у девушки с голубыми глазами и пунцовыми губками, и вы могли вальсировать с этой же самой маленькой волшебницей по пять шиллингов за раз. Мой друг Барри сильно побледнел, когда услышал это от меня.
– Уж будто ты не умеешь вертеться на носках? – спросил я.
– Друг, – ответил он, – это несравненно хуже, чем переплыть Ла-Манш.
– А Фабос танцует, – сказал я, указывая на последнего, – и будет танцевать, пока не взойдет солнце.
А танцевал он на этом базаре в Кенсингтоне с миниатюрной девушкой в красном. Я уверен, что его шесть футов один дюйм уменьшились до пяти футов с двумя третями, – так низко приходилось ему наклоняться, чтобы нашептывать ей нежные слова всякий раз, когда он платил пять шиллингов за вальс, как это было сказано в программе. А обыкновенно он такой молчаливый человек! Его даже в клубе ничем, бывало, не расшевелить и ничего не добиться от него, кроме молчаливой улыбки. Каких только определений не давали этому Ину Фабосу! Одни говорили, что он циник. Некоторые упоминали о его бессердечии, были и такие, что утверждали, будто он эгоист. Что делал он со своими деньгами? Тратил ли часть их на своих друзей? Священным храмам Бахуса это было лучше известно. Говорили, что он скупал везде бриллианты. Да, именно крупные бриллианты, рубины и сапфиры, которые предназначались не для прекрасных ручек дам и их белых плеч, а для того, чтобы лежать под замком внутри несгораемого шкафа в его доме возле Ньюмаркетской дороги, лежать там скрытыми в ночной темноте. Так, по крайней мере, говорили люди. А я со своей стороны прибавлю, что во всем Лондоне не было совершено ни одного истинного благодеяния без того, чтобы в нем тайно не участвовало его великодушное милосердие.
Почему же, однако, обращались все взоры на Ина Фабоса, когда он бывал в какой-нибудь компании? Весьма возможно, что у некоторых являлась при этом надежда занять у него денег. Быть может, надеясь на возможность занять у него денег, они тем самым думали спасти его от таких же притязаний со стороны других. В этом, надо полагать, и заключалась дружба по их мнению. Но заметьте, что много было и таких – чуждых ему совершенно людей, врагов, завидующих ему в том, что он пользовался всеобщей благосклонностью, которые вместе с остальными были у его ног. Почему? Сейчас скажу. Причиной этому была та великая сила, которую зовут личным магнетизмом, сила, не имеющая до сих пор настоящего названия, но существование которой мы не можем, однако, отрицать. Не знаю ни одного человека, обладающего ею в той же степени, как Ин Фабос. Достаточно было ему сказать три слова за столом – и вся комната уже слушала его. Он молчал, и все-таки люди смотрели на него. Никто не имел собственной своей воли там, где он бывал. Нигде не проходил он незамеченным.