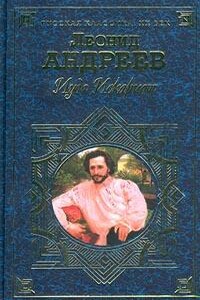Пароход идет час и другой, а все еще виден город, живописно-беспорядочный и пестрый, с старинными башнями и заводскими трубами, с церквами и мечетями, все еще чувствуется причудливая смесь его азиатской старины и гигантских сооружений современной техники, обомшелого кирпича и трамваев, босяцкой нищеты, нелепой миллионной роскоши, мрачных заводских корпусов и мягкой красоты заволжских далей…
Вот он закутался синей дымкой дали и стал похож на этикетку, оттиснутую мутной краской на серебристой лазури горизонта. А какие-то юные экскурсанты в фуражках с зелеными околышами все еще шумно снуют по балкону с своими фотографическими аппаратами, и не остывает пестрое, шумное, праздничное оживление, которое неизменно приливает на пароход на каждой большой пристани вместе с новыми торопливыми впечатлениями и новыми лицами.
Внизу, на корме, выступили какие-то певцы.
— Ты не езди, милый, к Яру…
Голоса хриплые, с трещинами, жалкие, скорбные. Тщетно стараются они изобразить лихой разгул и удаль, — одна горечь тяжелого похмелья выразительно звучит в их песне. И припухшие лица артистов — их четверо — того кирпично-малинового цвета с глянцем, который так свойствен запойным людям, с тоской и унынием смотрят перед собой остекленевшим, неподвижным взглядом.
Но их слушают. Вверху, на балконе, стоит толпа сытая, чистая, холеная, нарядная, обрызганная духами, улыбающаяся небрежно и снисходительно. Внизу сгрудилась толпа серая, тощая, бесшапая и лапотная или вовсе босоногая, обожженная солнцем и ветром. По открытым ртам, по восхищенным глазам, ушедшим в морщинки, по застывшим позам видно, что вся она охвачена трепетным вниманием, радостно изумлена и словно преображена волшебным дуновением искусства…
— Физиономии-то, физиономии!.. — говорит возле меня молодой господин в панаме и темно-коричневой паре.
Ардатовский землевладелец Иван Парменыч, с которым я вчера познакомился, толстяк в немецком картузе, громко пыхтя и с усилием выталкивая из себя слова, говорит:
— Да… вот этот… кумачная рубаха-то… картуз набекрень… видать, выпить не любит…
— Не любит! Так у него; тоска и написана на лице…
— И вон тому… в венгерке-то… тоже в темном углу не попадайся!..
Кончили певцы. Красная рубаха сдергивает картуз с головы и, галантно изогнув корпус, смотрит вверх, на балкон, где стоят нарядные, небрежно-любопытствующие люди, — оставляя без внимания тощую и смирную, тесно сгрудившуюся толпу около себя.
Летят вниз медяки — сперва дружно, потом с паузами. Обрываются. А картуз все еще реет в воздухе, ждет.
— Подкидывайте, господа! не стесняйтесь! — хриплым голосом говорит уныло-серьезный человек в красной рубахе, — в своем кармане не стесняйтесь! Хоша и не спешите… по очереди!..
Кто-то кинул еще две медных монетки. И снова пауза, долгая, безнадежная. Красная рубаха горько вздыхает, перекладывая медяки из картуза в карман, и говорит с усмешкой невеселого торжества:
— Ну вот… денежки были ваши, а теперь наши… До свидания, господа! Дай Бог вам здоровья, а нам не хворать!.. Адью!
Уходят артисты. Тает толпа, растекается по балкону. Шуршат шаги, лениво пересыпается говор, звенит смех. Звонким плеском взмывает резво-веселый визг детей. Нарядные, как куколки, девочки с голыми коленками мчатся вперегонку по палубе, натыкаясь на лакеев с посудой, на Ивана Парменыча, на витрину с книгами, которую бойкий торговец поместил как раз на повороте в корме. И частый стук детских ножек долго стоит в зыбком шорохе мерных шагов…
— Поддержите коммерцию, господа… Виды Волги… — предлагает торговец, молодой парень с смышлеными серыми глазами.
Я выбираю несколько карточек. Останавливается и господин в панаме.
— Что у вас есть хорошенького из книг? — спрашивает он.
— Пожалуйте-с! — бойким тоном говорит книготорговец. — Вот, ежели веселого чтения, то — «Белый салон», веселый еженедельник… «Первая вспышка» — занятная тоже вещь…
— Нет, вы мне что-нибудь такое… чтобы не то что прочел и бросил, а этакое… стоющее…
— Ежели посурьезней, то вот… «Пол и характер»… Много берут…
Господин в панаме внимательно осматривает внушительных размеров книгу в странной обложке, переворачивает несколько листов, прочитывая по строке, смотрит на корешок, на число страниц. Лицо у него смуглое, с жидкими усами, сухое, слегка скуластое, красивое. Небольшие черные глаза, деловитые и строгие, как будто хотят сказать: «Нас не проведешь!» И книгу осматривает он с тем пристальным вниманием и подробностями, с какими привык осматривать лошадь, — я уже знаю, что он торгует скотом.
— Сколько же вам за нее?
— А там цена есть, — чрезвычайно любезным тоном отвечает торговец, — на корешке-с… Два с полтиной… Десять процентов уступки сделаю, — два с четвертаком…
— А полтинничек если?
— Что вы! За такую-то книгу!..
— Ну, сколько же окончательно?
— Ну, извольте, — два рубля!
— Два не дам.
— Сколько же дадите? Хотя мы и крестьяне-рабочие, но нашему брату тоже ведь пить-есть надо…
— Я сам не из графов, не думайте, — спокойно говорит господин в панаме, — тоже крестьянин, занимаюсь скотом. И читать-то стал вот… не очень давно… Желание-то есть, даже большая охота к чтению, а что читать, и сам не знаешь… А все-таки без чтения теперь уж не могу… Все-таки окончательная цена?..