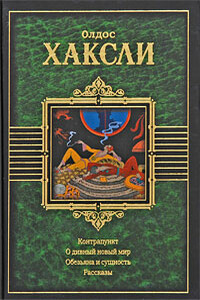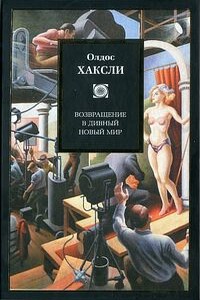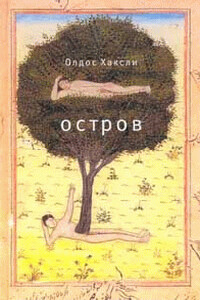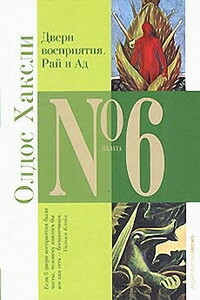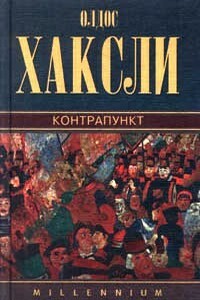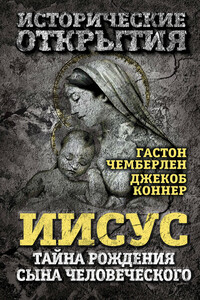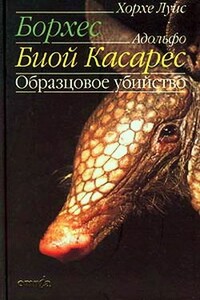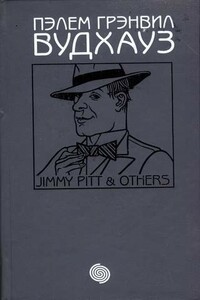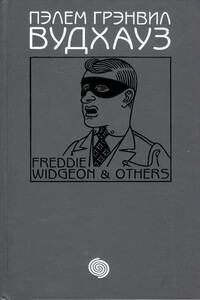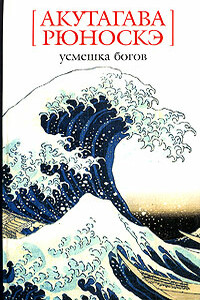Aldous Huxsley
«Fard»
Рассказ
Скандал длился уже добрых три четверти часа. Невнятные, приглушённые звуки выплывали в коридор из другого конца квартиры. Склонившись над шитьём, Софи спрашивала себя, без особого, впрочем, любопытства, что же там такое на этот раз. Чаще всего слышался голос хозяйки. Пронзительно-гневный, негодующе-слезливый, он безудержно изливался бурливыми потоками. Хозяин лучше владел собой, голос его был глубже и мягче и не так легко проникал через запертые двери и коридор. Из своей холодной комнатушки Софи воспринимала скандал большей частью как серию монологов Мадам, в промежутках между которыми воцарялось странное зловещее молчание. Но время от времени Месье, казалось, совершенно выходил из себя, и тогда уже не было тишины между всплесками: стоял непрерывный крик, резкий, раздражённый. Громкие вопли Мадам доносились не переставая, ровно, на одной ноте: её голос даже в гневе не терял своей монотонности. А Месье говорил то громче, то тише; голос его приобретал неожиданный пафос, менял модуляции – от мягких увещеваний до внезапных воплей, так что его участие в перебранке, когда оно было слышимо, выражалось отдельными взрывами. Будто пёс лениво гавкает: «Р-гав. Ав. Ав. Ав».
Через какое-то время Софи перестала обращать внимание на шум. Она чинила лифчик для Мадам, и работа поглощала её целиком. Как она устала, всё тело ноет. Сегодня был тяжёлый день, и вчера тяжёлый день, и позавчера тяжёлый день. Каждый день – тяжёлый, а она уже не молоденькая: ещё два года – и пятьдесят стукнет. Каждый день – тяжёлый, с тех пор как она себя помнит. Ей представились мешки с картошкой, которые она перетаскивала девочкой, когда ещё жила в деревне. Медленно-медленно бредёт, бывало, по пыльной дороге с мешком через плечо. Ещё десять шагов – и конец: можно дотянуть. Только вот конца никогда не было: всё начиналось сызнова. Она подняла голову от шитья, помотала ею, зажмурившись. Перед глазами заплясали огоньки и цветные точечки – теперь такое с нею часто случается. Какой-то желтоватый светящийся червячок всё время извивается вверху справа – ползёт и ползёт, но не сдвигается с места. А ещё красные, зелёные звёзды всплывают из темноты вокруг червячка – мерцают и гаснут, мерцают и гаснут… Всё это мелькает перед шитьём, горит яркими красками даже теперь, когда глаза закрыты. Ну, пожалуй, хватит отдыхать: ещё минуточку – и за работу. Мадам просила приготовить лифчик к завтрашнему утру. Но ничего не видать вокруг червячка.
На другом конце коридора шум внезапно нарастает. Дверь открылась, явственно прозвучали слова.
– …bien tort, mon ami, si tu crois que je suis ton esclave. Je ferai ce que je voudrai [1].
– Moi aussi [2]. – Смех Месье не предвещал ничего хорошего. В коридоре послышались тяжёлые шаги, что-то хрустнуло на подставке для зонтиков, с треском захлопнулась входная дверь.
Софи снова склонилась над работой. Этот червяк, эти звёзды, эта ломота во всём теле! Провести бы целый день в постели – в огромной постели, пушистой, тёплой, мягкой, – целый Божий день…
Звонок хозяйки напугал её – этот звук, похожий на жужжание растревоженных ос, всегда заставлял её вздрагивать. Софи встала, положила шитьё на стол, разгладила передник, поправила чепец и вышла в коридор. Звонок ещё раз неистово зажужжал. Мадам, видно, совсем потеряла терпение.
– Наконец-то, Софи. Я уж думала, вы никогда не явитесь.
Софи промолчала – что тут скажешь? Мадам стояла перед распахнутым настежь шкафом. Она прижимала к груди целую кучу платьев, ещё ворох разнообразной одежды валялся на кровати. «Une beaute a la Rubens» [3], – говаривал о ней муж, когда бывал в благодушном настроении. Ему нравились такие женщины: роскошные, крупные, полногрудые. Что возьмёшь с этих невесомых фей – кости одни, больше ничего. Он ласково звал жену «моя Елена Фоурмен».
– Когда-нибудь, – говорила Мадам знакомым, – я должна всё же пойти в Лувр и поглядеть на свой портрет. Кисти Рубенса, знаете ли. Это просто поразительно: всю жизнь прожить в Париже и ни разу не побывать в Лувре. Не так ли?
Сегодня вечером она была великолепна. Щёки пылали, глаза под длинными ресницами сверкали ярче обычного, короткие рыжевато-каштановые волосы живописно разбросаны по плечам.
– Завтра, Софи, – трагически произнесла она, – завтра мы едем в Рим. Утром.
Говоря это, она сняла с вешалки ещё одно платье и швырнула его на постель. От резкого движения халат распахнулся, мелькнуло расшитое бельё и пышное, белоснежное тело.
– Надо немедленно собираться.
– Надолго ли едем, Мадам?
– Две недели, три месяца – откуда мне знать? Да и какая разница?
– Большая, Мадам.
– Главное – уехать. После того, что мне сейчас было сказано, я вернусь в этот дом, только если меня будут об этом умолять на коленях.
– Тогда, Мадам, лучше взять самый большой чемодан. Пойду принесу.
В кладовке было душно, пахло пыльной кожей. Большой чемодан затиснут в дальний угол; чтобы вытащить его, нужно наклониться и тянуть изо всех сил. Червячок и цветные звёзды задрожали перед глазами, а стоило выпрямиться, как закружилась голова.
– Я помогу вам собрать вещи, Софи, – сказала Мадам, увидев горничную, волочившую тяжёлый чемодан. Какое страшное, смертельно усталое лицо у этой старухи! Она не выносит рядом с собой людей старых и некрасивых, но Софи такая расторопная, было бы глупо уволить её.