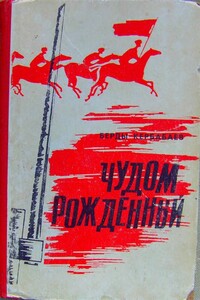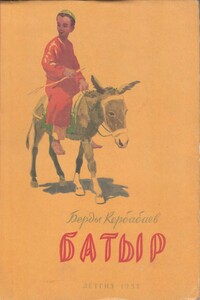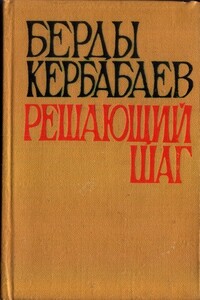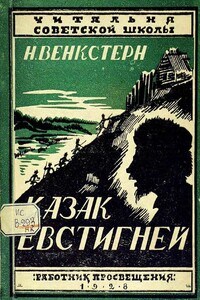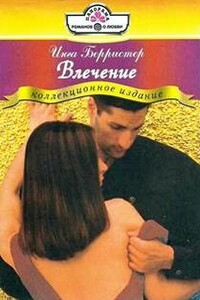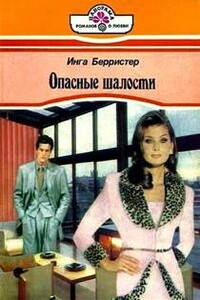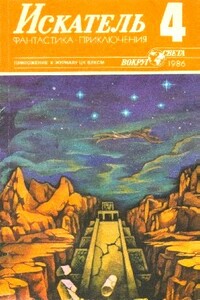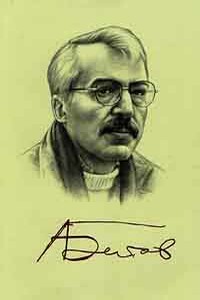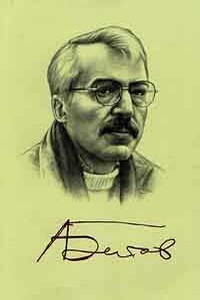тоят жаркие дни второй половины августа. Солнце клонится к западу, но еще ослепительно сверкают косые лучи, заливая неоглядный простор хлопкового поля. В густой зелени листьев кое-где мелькают пушистые белые хлопья, отливая серебром в ласковом сиянии солнца.
Синее небо безоблачно; в тихом прозрачном воздухе чуть приметно дуновение ветерка; едва слышно шелестят тяжелые коробочки, покачиваясь на тонких, гибких ветвях хлопчатника. Так крепко сплелись меж собой эти ветви, что трудно проникнуть под их зеленый свод.
В поле по двое, по трое работают колхозники, звучат голоса, рассыпается смех. Над арыком рядами стоят тутовые и — ближе к селу — урюковые деревья. Неумолчно заливаются жаворонки; «джюип-джюип», — поют они, радуясь тому, что все так прекрасно вокруг. И кажется, будто это коробочки хлопка звенят, покачиваясь на упругих ветвях.
Поливальщик с лопатой на плече идет вдоль арыка, и над полем разносится песня:
Звонко, звонко звенят бубенчики твои,
Зимний день в весну обратит улыбка твоя.
Брось, красавица, свой нежный взор на меня…
Вдруг песня обрывается. Девушка, разрыхлявшая землю под кустами хлопчатника, неожиданно выпрямилась, и ее лицо оказалось вровень с лицом поливальщика, который шел мимо и пел песню.
Поливальщик останавливается, снимает с плеча лопату, втыкает ее в землю. Опустив глаза, сжимая в руках скользкий черенок лопаты, он говорит негромко:
— Айсолтан…
Айсолтан смотрит на поливальщика. Голова его обмотана платком, ворот синей рубахи распахнут, рукава засучены выше локтей. Крепкая грудь, мускулистая шея, руки и лицо покрыты загаром, кожа золотится, как бронза под лучами солнца. Серые штаны закатаны до колен. Босые ноги тонут в мягкой насыпи арыка, и влажный песок просачивается между пальцами.
Поливальщик не смотрит на Айсолтан, и она угадывает его смущение, видя, как он отвел глаза и как вздрагивают его щеки от невольной радостной улыбки. Это придает ей смелость. Как-то весело, весело и легко становится вдруг Айсолтан, и она не знает сама, чего ей хочется — не то еще больше смутить поливальщика, не то прочь отогнать робость, которая сковала его. Айсолтан говорит:
— Ну, Бегенч, что же ты сразу умолк?
Бегенч поднимает глаза и смотрит прямо в лицо Айсолтан.
Черные брови Айсолтан разлетаются птичьими крыльями, в темных, широко раскрытых глазах шаловливо играет солнце; нежные губы улыбаются, и, как белые бусинки, блестят ровные влажные зубы. Кто скажет, что Айсолтан красавица? Но когда она так улыбается и на щеках у нее смеются ямочки, она кажется Бегенчу самой нежной, самой милой, самой красивой девушкой на земле. Бегенч шутник, весельчак, он никогда не робеет перед другими девушками. Только при виде Айсолтан смущение охватывает его, привычные шутки не идут с языка и он кажется себе неловким и глупым. Не раз в присутствии Айсолтан на Бегенча вдруг нападал страх: а не сказал ли он что-нибудь неуместное, не подобающее? Сейчас он силится вспомнить песню, которую только что напевал, и не может. Бегенчу еще больше становится не по себе: а вдруг это была какая-нибудь глупая, бесшабашная песня? И, совсем потерявшись от смущения, он молчит, сжимая в руках лопату.
Снова спрашивает его Айсолтан:
— Что же ты не поешь, Бегенч?
Не зная, что ответить ей, Бегенч бормочет:
— Да просто так…
Но Айсолтан не отстает от него:
— Что это значит — просто так?
У Бегенча все уже перепуталось в голове, он удивленно смотрит на Айсолтан.
— Разве я пел?
— А разве ты не пел?
— Ах, ну да, просто так шел и напевал про себя.
— Ну вот, я тебя и спрашиваю.
— Что спрашиваешь?
Улыбается Айсолтан:
— Да вот о ком эта песня: «Звонко, звонко звенят бубенчики твои…»?
— Да, да, они звенят… звонко, звонко звенят…
— А чьи же это бубенчики?
— Чьи?.. — Бегенч растерянно отворачивается. Взор его падает на коробочки хлопчатника. — Вот чьи, — указывает он. — Бубенчики хлопчатника!
Смеется Айсолтан:
— Ой! Что ты болтаешь, Бегенч! Какие же у хлопчатника бубенчики?
Но Бегенч уже овладел собой. Его страх прошел, и он говорит:
— А ты погляди, Айсолтан, — разве это не бубенчики? Смотри, каждый куст, как разряженная невеста!
Сравнение Бегенча нравится Айсолтан. Она внимательно оглядывает пышный куст хлопчатника и, помолчав немного, говорит:
— Ты это хорошо сказал, Бегенч. Только если песня твоя про хлопчатник, то к чему же эти слова: «Зимний день в весну обратит улыбка твоя»?
Нет, Бегенч больше не боится Айсолтан, словно перед ним не она, а какая-то другая девушка; смело глядя ей в лицо, он восклицает:
— Как к чему? Ведь каждая коробочка хлопчатника — это бутон; когда он распускается — это улыбка, каждое волоконце хлопка — солнечный луч, оно веселит душу, светом озаряет мрак, зиму превращает в весну!
Айсолтан в задумчивости срывает лист хлопчатника, который касается ее груди, подносит его к губам, безотчетно вдыхая сырой, тяжелый запах. Потом она говорит, и ее голос звучит теперь совсем по-другому, проникает Бегенчу в самое сердце:
— Бегенч, я не раз слышала, как ты выступаешь на собрании, делаешь доклад. И я всегда знала, что ты умеешь хорошо, складно говорить. У тебя богатый язык, красивый. Почему же ты не пишешь стихов, Бегенч?