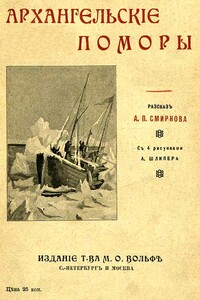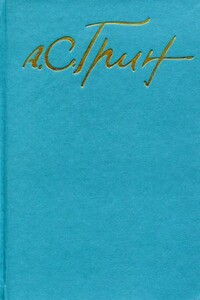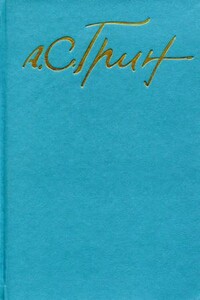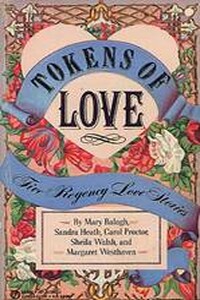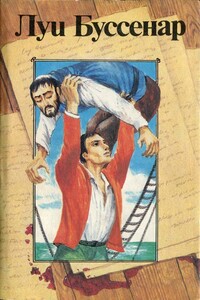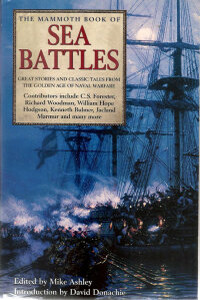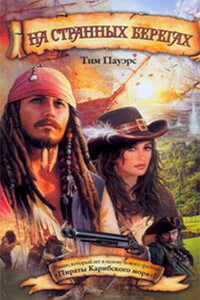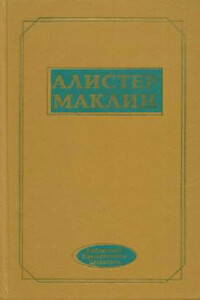Съ трескомъ, дымясь, догораетъ лучина въ маленькой, дымной избушкѣ Антона Безроднаго; на улицѣ льетъ проливной дождь, воетъ рѣзкій, холодный вѣтеръ. Время не раннее, часъ двѣнадцатый ночи. Давно ужь спятъ на полатяхъ ребятишки Антона: два мальчика да дѣвочка; спитъ у печки въ углу и старая, глухая тетка Антона, накрывшись дырявымъ овчиннымъ полушубкомъ. Не спятъ только самъ Антонъ, не старый еще, невысокаго роста, плотный мужикъ съ маленькой русой бородкой, да жена его Матрена.
Антонъ примостился поближе къ лучинѣ и разсматриваетъ очень внимательно старое кремневое ружье съ попорченнымъ замкомъ; онъ то на свѣтъ прикинетъ его, то въ дуло подуетъ. Матрена сидитъ у печки. Въ рукахъ у нея прялка, но работа что-то плохо подвигается впередъ. Вотъ Матрена выпустила веретено и о чемъ-то задумалась. Невеселыя, должно быть, были эти думы, потому что лицо ея становилось все пасмурнѣе и пасмурнѣе. Вотъ губы у нея задрожали, и она вдругъ тихонько заплакала.
Нахмурилъ брови Антонъ и взглянулъ на жену исподлобья.
— Это еще что? — сказалъ онъ. — Хоронить ты меня собираешься, что-ли?
— Да какъ же, Антонъ Степанычъ, — жалобно говорила Матрена, — все оно какъ-то… Дорога теперь дальняя такая, да и вѣтры нонѣ стоять… А вдругъ, Боже чего сохрани…
— Ну-у, закаркала, вѣтры, вѣтры!.. А ты бы еще Бога благодарила, что повѣтерь Онъ намъ посылаетъ — ѣхать хорошо будетъ.
Матрена глубоко вздохнула и опустила голову.
— Ноетъ у меня что-то сердце, Антонъ Степанычъ, ноетъ, — говорила она, — чуетъ, видно, что-то недоброе… Останься-ка дома, голубчикъ, а? право, останься…
Антонъ съ удивленіемъ взглянулъ на жену и улыбнулся.
— Да ты ошалѣла право, Матрена! — сказалъ онъ. — Ишь ты слово какое вымолвила: останься. Да развѣ мнѣ можно остаться-то, а? Вѣдь ты ѣсть-то да пить захочешь, ребята тоже захочутъ, — такъ какъ же?.. А деньги-то эти, что я у Василія Семеновича впередъ забралъ… Ты это какъ полагаешь?
Матрена Молчала.
Антонъ опять взялся за ружье и началъ его разглядывать.
— Вотъ чѣмъ пустяки-то молоть, — сказалъ онѣ, — скажи-ка ты лучше, все ли приготовила на дорогу?..
— Все приготовила, родимый, все… Рубахъ тебѣ четыре выстирала, полушубокъ починила, пироговъ да шанежекъ[1] вчера еще напекла. Все, кажись…
— Да ты попомни-ка хорошенько, не забыла ли чего, — дорога-то не близкая…
— Нѣтъ, родной, ничего не забыла.
На минуту воцарилось молчаніе. Матрена всхлипывала потихоньку, Антонъ по-прежнему возился съ ружьемъ. Вотъ онъ положилъ его въ сторону и поднялся со скамьи.
— Это еще что? Хоронить ты меня собираешься, что-ли?
— Матрена, — заговорилъ онъ, — послушай-ка, что я тебѣ скажу…
— Что, родимый?
— А вотъ слушай-ка… Да полно ревѣть-то, — не въ гробъ вѣдь меня провожаешь… Ну, вотъ — какъ уѣду — за ребятишками смотри, получше приглядывай, а ужь особенно за Ѳедюшкой — больно онъ озорной…
— Да я завсегда, Антонъ Степанычъ…
— Ну, да… Спуску-то имъ не давай много… Вотъ теперь насчетъ пропитанія… Муки-то у насъ еще сколько осталось?..
— Муки-то? А ужь не знаю хорошенько, Антонъ Степанычъ… Пуда четыре, кажись, есть еще…
— Гм… четыре… маловато оно… Ну, да ничего, — выйдетъ, такъ ты у Бровихи попроси взаймы… тамъ, скажи, сосчитаемся…
— Да ты ужь рази больно надолго, Антонъ Степанычъ? — спросила Матрена и въ голосѣ ея послышалось безпокойство.
— А я-то почемъ знаю, надолго-ли? Може на мѣсяцъ, на полтора, али больше. Ужь тамъ какъ Господь дастъ… Ну, такъ вотъ: коли мука выйдетъ — у Бровихи возьми… Треска тоже есть у насъ, палтосина, кажись, осталась…
— Есть и палтосина…
— Такъ… Ну, вотъ и живите съ Богомъ, ждите меня… А ужь если да…
Тутъ Антонъ остановился; Матрена съ испугомъ уставилась на него, и на глазахъ ея опять показались слезы.
— Да полно тебѣ ревѣть-то… Такъ, къ слову пришлось… Мало ли что можетъ случиться — всѣ подъ Богомъ ходимъ: сегодня живъ, а завтра… А ужь особливо нашему брату-промышленнику — съ моремъ вѣдь тоже шутки плохія…
Матрена захныкала.
— Эхъ, перестань! — махнулъ рукою Антонъ. — Ничего, все обойдется, Богъ дастъ; не въ первый разъ хожу-то, пятый ужь годъ… А коли приключится что, такъ ты знаешь… Есть у меня зашиты въ старой жилеткѣ плисовой, что въ сундукѣ-то лежитъ — двадцать пять рублевъ… Это я про черный день припряталъ, давно ужь какъ-то… Что глаза выпучила? Думаешь, зачѣмъ тебѣ не сказалъ? А зачѣмъ говорить-то? — сказано, про черный день… Такъ вотъ деньги эти… Ну, на первое время хватить, а тамъ продать кое-что можно, лишнее то-есть.
— Да что ты, Антонъ Степанычъ, — жалобно заговорила Матрена, — точно помирать собираешься, право…
— Фу, ты, Господи!.. Сказано, что человѣкъ подъ Богомъ ходить… Ну, и это такъ, на всякій случай, говорится… Такъ продашь что тамъ лишнее, а потомъ добрые люди, авось, не оставить, не дадутъ по міру идти съ малыми ребятишками…
Долго еще разговаривалъ Антонъ съ женою, совѣты ей, наставленія давалъ разныя, какъ вообще жить въ его отсутствіе, какъ держать себя по отношенію къ сосѣдямъ, а особенно къ сосѣдкамъ.
Наконецъ оба улеглись спать.
Тишина воцарилась въ избѣ, только вѣтеръ шумѣлъ на улицѣ, да слышался легкій храпъ тетки Дарьи у печки. Долго не могъ заснуть Антонъ — много, видно, думъ накопилось у него въ головѣ, и безпокоили его эти думы. Что касается до Матрены, такъ та до самаго разсвѣта глазъ не сомкнула.