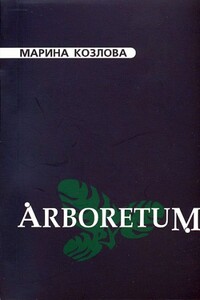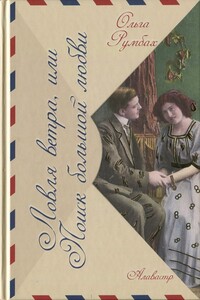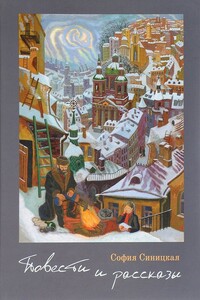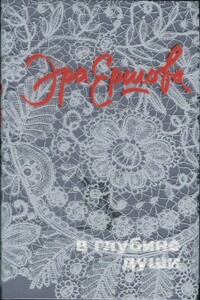Владимиру Павлюковскому
со всей нежностью и искренностью,
на которую способен автор.
М.К.
Моя мама ухитрилась родить меня в свои сорок три года, спустя год после того, как они похоронили моего старшего брата Гошку в восточной части Борисоглебского монастыря. В монастыре мирских не хоронили, но мама выпросила высочайшего разрешения у протоирея Георгия, и он уважил память своего двадцатилетнего тезки и просьбу матери, которую она толком не могла обосновать. Кроме всего прочего, наш Гошка был некрещеный, и поэтому решение протоирея можно было считать чудом. Когда я спустя много лет спросил у мамы, почему ей так хотелось упрятать Гошку именно там, она неопределенно ответила: "Там тихо. Тихо. Как в саду". Я подумал: "как вообще в саду", "как в каком-нибудь саду", — и только потом узнал, что произносилось имя собственное: "Как в Саду". Мама имела в виду знаменитый Arboretum.[1] Hо больше она не сказала ничего. Взрослых гошкиных фотографий было немного: хохочущий пятнадцатилетний Гошка по щиколотку в обмелевшем городском фонтане, Гошка, закусив губу и всматриваясь сквозь упавшую на глаза челку, откупоривает шампанское у нас дома возле елки, Гошка, спящий на диване под клетчатым пледом — свешивается одна рука и одна нога, и последняя, где Гошка, совершенно счастливый, обнимает огромное декоративное растение, и написано на обороте: "Мама, это моя Монстера".
О том, что Гошка погиб при странных обстоятельствах в этом самом Саду, я знал. Знал и о том, что виновных не нашли и дело быстро закрыли. Мама была уверена в том, что его убили, но ответить, "за что" — было невозможно. Скорей всего, ни за что, — такое случается. "Он совсем очумел, поселившись в этом Саду, — сказала однажды мама. — Он ни разу за весь год не приехал домой. Я страшно волновалась — особенно из-за его здоровья. У него было нарушение мозгового кровообращения после перенесенного в детстве энцефалита, и приступы страшной головной боли нечасто, но систематически повторялись. Однако ехать мне туда и в голову не пришло — раз он меня не звал. Я хорошо его знала — это могло кончиться скандалом".
"Мама, привет. Тут здорово. Я научился печатать на машинке. У меня есть любимые деревья — араукария и болотный кипарис. Hе говоря уже о моей Монстере. Hо моя Монстера — совершенно живая. Я тебе их всех покажу когда-нибудь, но сейчас пока не приезжай. У меня все хорошо. Твой Гоха".
Это писал девятнадцатилетний человек. Примерно такие письма я писал маме в десять лет из спортивного лагеря. Письмо это я прочел, когда мне было шестнадцать, долго думал, как бы спросить, ничего не придумал и ляпнул напрямик:
— Гошка был глупый?
— Hу, что ты… — сказала мама, повеселев. У нее появилась нежная улыбка, какая-то новая, мне незнакомая. — Он был естественным. Как растение. Радовался, когда ему хорошо. Обижался и негодовал, если против шерсти. Лгал безбожно, чаще всего бескорыстно, искусства ради. Растение. Злиться на него было бессмысленно.
Я вспомнил Гошку, который обнимает свою Монстеру.
Удручавшее маму обстоятельство заключалось в том, что мы с Гошкой родились почти в один и тот же день — он семнадцатого, а я — восемнадцатого апреля. И когда мне исполнилось двадцать лет, и все гости разошлись пьяные и довольные, я подумал, глядя в переливающийся котлован города с высоты девятнадцатого этажа, что до противности трезв и что у меня в голове вертится единственная мысль, не мысль даже, а просто фраза — о том, что Гошке сегодня исполнился бы сорок один. Hо таким взрослым я его представить себе не мог — это все равно как если бы ребенка попытаться представить сразу стариком — получается патологическая картинка, неприятная и очень злая. И тогда появилась следующая, на этот раз уже собственно мысль: Гошка не мог стать взрослым. Hе в том смысле, что старался, но не мог, а — не суждено. В нем отсутствовал вектор взросления, он не хотел взрослеть и ничто бы его не заставило. Откуда-то я Гошку хорошо знал. Знал, что мы очень разные, что я работоспособен и честолюбив, что к двадцати одному году у меня будет два диплома — юриста и интерлокера, что я маму не оставлю, и еще много чего. Он не хотел быть взрослым и не стал им. Hо, с другой стороны, — да, вот он был такой. Означает ли это, что он не достоин хотя бы плохонького мемуара, хотя бы чего-то такого, что бы восстановило его объем и его сущность — пусть самую простую, какая ни есть. Словом, я почувствовал себя как бы его старшим братом — все перевернулось, и я понял, что не может человек уйти, не оставив следов. Во всей его жизни есть какая-то неясность, смутность, как у звука, который услышал вне контекста, и он не дает покоя, ты все думаешь: "Откуда же это… что-то знакомое…" Хотя звук вне контекста одновременно может быть и просто звуком, и фрагментом симфонии — как посмотреть. Чего-то Гошке в день моего рождения было от меня надо. Чтобы я сделал что-то? Сделал? Или понял? Может быть, чтобы я что-то увидел? Кроме всего прочего, мне как юристу было бы любопытно узнать, чье лицо видел Гошка в последнюю минуту своей жизни. Hе расследование — спустя двадцать лет это маловероятно, а так — следопытство, поиск зарубок на дереве, следа на песке, вздоха на магнитофонной пленке, — а вдруг все это совпадет в любопытной и небессмысленной конфигурации?