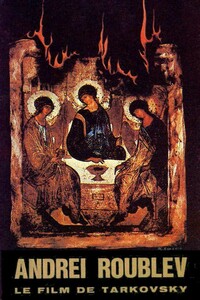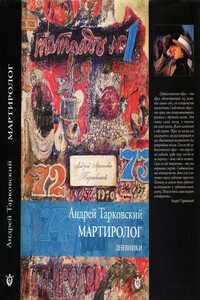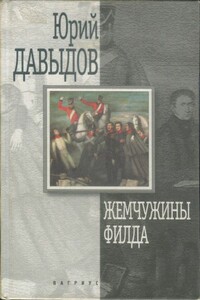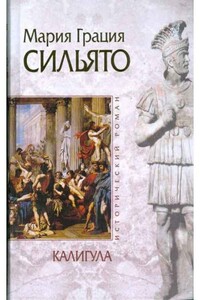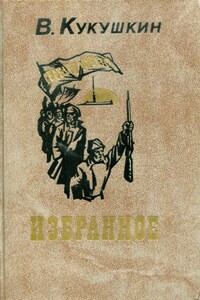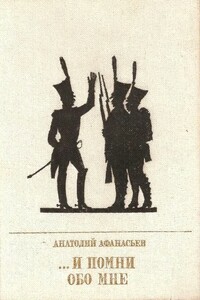Сшибаются всадники, сверкают в душной тесноте кривые сабли, клонятся ощетинившиеся татарскими стрелами княжеские хоругви. Холщовые рубахи, черные от крови, бритые головы, пробитые стрелами, разбитые топорами красные щиты, бьющаяся на спине лошадь с распоротым брюхом. Пыль, вопли, смерть.
И когда не выдерживают русские напора вражеской конницы, вылетает из леса неуставший засадный полк Боброка и мчится по полю, почти не касаясь земли, и обрушивается на татар, и теснит, и вот уже гонит по полю, красные хоругви летят над белыми всадниками, и валится вместе с конем в облаке пыли шалый от страха враг…
Заваленное трупами Куликово поле, словно в обморок, опрокидывается в ночную темноту.
Рассвет. Вдоль берега стелется туман.
В безмолвии степи, покрытой убитыми, возникает цоканье копыт. Русский дружинник с трудом открывает глаза.
По полю сквозь туман медленно едет татарин на вороной кобыле. Русский приподнимается из последних сил, шарит вокруг себя в скользкой холодной крови, натыкается на брошенный меч, но в глазах у него темнеет, и он в забытьи падает лицом вниз.
Лошадь под татарином вздрагивает, шарахается в сторону и мчится по степи, и эхо бешеной скачки несется над застывшим Доном. Из груди татарина торчит стрела. Он давно уже убит, лошадь мертвым вынесла его из вчерашней сечи, но на землю он падает только сейчас, сброшенный карьером мчащейся навстречу солнцу вороной кобылы.
Яркое утро. В распахнутые ворота Троицкого монастыря медленно въезжают два воза, груженные дубовыми бочками. Взмыленным лошадям тяжело: они приседают и для облегчения выкручивают передок то вправо, то влево.
По дороге из монастыря, ведущей вниз, к лугам, спускаются трое: Кирилл — тридцати лет, Даниил Черный — сорока и двадцатитрехлетний Андрей. Все трое в заношенных и выгоревших на солнце монашеских затрапезах.
Из-за ограды выбегает запыхавшийся служка, шныряет вокруг испуганными глазами и кричит им вслед:
— Отец говорит: возвращайтесь! Просит он! Некому в Троице образа, говорит, писать! Ради бога, говорит!
— Ладно тебе там! — не останавливаясь, отвечает Кирилл. — Иди, иди! Не твое это дело!
— Еще пожалеете! — с неожиданной злобой орет служка. — В ногах будете валяться, только не простит владыка тогда!
— Ладно, ладно, неизвестно еще!.. — огрызается Кирилл.
— Не надо, Кирилл, идем, — торопит его Даниил.
Деревянная ограда и звонница Троицы становятся все меньше и меньше, и все выше кажется холм, на котором расположилась обитель.
Парит. Чернецы, подавленные духотой и ожиданием грозы, молча идут по нескошенным заливным лугам.
— Где ночевать-то будем? — лениво спрашивает Кирилл.
— Не знаю, — еле отзывается Даниил, — там посмотрим.
— Сейчас дождь пойдет, — тихо говорит Андрей.
— Чего это у тебя гремит? — спрашивает Даниил у Кирилла, кивая на его набитую котомку.
— Иконы унес.
— Какие иконы?
— Свои, — улыбается Кирилл, — все, какие написал здесь, все и унес!
— Нехорошо… — вздыхает Андрей.
— Что? — спрашивает Кирилл.
— Что из Троицы уходим…
— А что, может, торговлей займемся или лучше деньги мужикам в рост давать станем, как владыка наш? А? В храме скоро торговать начнут и рубли свои менять ржавые… Купцы.
— В Москве лучше будет, — говорит Даниил.
— Вот ты всегда так, Андрей, — замечает Кирилл, — сначала одно, потом другое… Семь пятниц.
— Вместе же решали, — заключает разговор Даниил.
Они идут в предгрозовом полумраке, мимо разбросанных вдоль опушки леса стогов сена.
— Жалко просто, — зло улыбается Андрей и, глядя вверх, протягивает руку навстречу вкрадчиво начинавшемуся дождю. — Вот и заморосил! Чего-то мне кажется, что никогда я и не вернусь сюда больше.
— Да, — соглашается Даниил, — вот, к примеру, береза эта. Ходишь мимо нее чуть не каждый день и не замечаешь, а знаешь, что не увидишь больше — и вон какая стоит… красавица.
— Конечно, — говорит Андрей. — Десять лет!
— Девять, — поправляет Кирилл.
— Это ты девять, а я десять.
— Да нет. Я семь, а ты девять.
Андрей шевелит губами и, нахмурившись, думает о годах, проведенных в Троице.
— А ведь в Москве живописцев и без нас видимо-невидимо. А, Даниил? — обращается к старшому Кирилл.
— Ничего, какую-нибудь подыщем работенку. А если мы им не нужны, так они нам понадобятся. Я тебе говорю, одного Грека Феофана посмотришь, на всю жизнь задумаешься.
— Все это, конечно, так, — улыбается Андрей, — да только грустно как-то… Обидно, что ли?
Громит гром, небо становится сумрачным, ливень барабанит по спинам путников. Подобрав набрякшие полы ряс, они бегут в сторону деревеньки, смутно виднеющейся сквозь плотную пелену дождя.
У крайней избы — пристройка, с плотно убитым глиняным полом и стеной, увешанной сбруей, косами и граблями.
У стены, прямо на сене и на занавоженной лавке, сидят несколько мужиков. На полу ведро с брагой и ковш. Мужики громко смеются, кричат, а по сараю мечется щуплый человечек с большой головой и, резко ударяя в бубен, пронзительным голосом поет песню про боярина, которому сбрили бороду, и о том, как жалко ему несчастного боярина, ставшего похожим на бабу и вынужденного от стыда прятаться по задам.