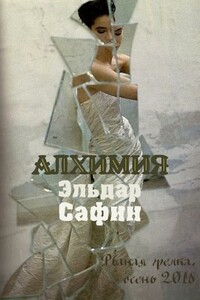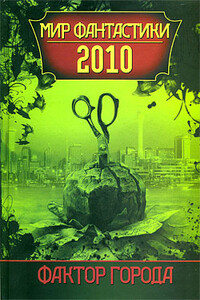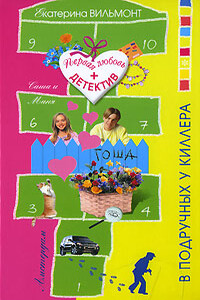— Лети-лети, левый лепесток, через север на восток… Ах!.. Лети-лети, правый лепесток, через запад на югок… Чуть мягче, амор… До глубин морского дна и обратно как из сна… Ооо! Повтори до дна глубин… Вверх, до снежных гор седин… Терпелив здесь будь и точен… О! Наш светлай… Светлой… Све… Све… СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ОКОНЧЕН МАТЬ ВАШУ СТУЧАТЬСЯ НЕ УЧИЛИ???
Шари выскользнул из-под подола, перекатился по кровати, упал на пол и дернулся в угол за шпажкой, но в последний миг застыл, ощущая прикосновение холодного металла к шее.
— Аршарат Лико, тебя вызывает декан. Натягивай штаны и быстро за нами. Шпагу потом заберешь.
Рассветное солнце выбрало именно это мгновение, чтобы пробиться сквозь теряющий листву каштан и вонзить луч в глаза. Шари зажмурился, медленно поднялся, обернулся и осмотрелся. В узкой длинной комнате с рядом из шести заправленных и одной словно взорвавшейся кроватей они были вчетвером — он, его любовница Ражана, а также старшина курса с дурацким незапоминающимся именем и еще пожарный с повязкой дежурного по кампусу.
— Прокляну вас, твари. Заговорю каждого, лично, вы у меня колени до членов сотрете, вымаливая прощение! Ваши руки отвалятся и отрастут из задницы, глаза вывалятся и прорежутся на яйцах! Шари, сукин сын, это и тебя касается, если ты не вернешься вечером!
Пока Ражана проговаривала это, ее любовник успел накинуть рубаху, подхватить штаны и сапоги, после чего с необыкновенной прытью покинул комнату — старшине и пожарному пришлось поспевать за ним.
— Она же не серьезно? — спросил пожарный.
— Класс поэзии, четвертый курс, — ответил Шари. — Уж если кто и умеет проклинать, то это Жанни. Насчет глаз из яиц вряд ли, а чирей на задницу может.
— Заткнись уже, мундир где? — рявкнул старшина.
— Какой мундир? — Шари остановился и принялся натягивать штаны, причем с первого раза получилось мотней назад и пришлось снять и попробовать еще раз.
— Военный! Где?
— Сжег.
Это была правда: после увольнения по случаю победы Шари сшил себе штаны и рубаху, заказал камзол и перевязь, а мундир с вонючими лосинами сжег в камине ближайшего кабака.
— Награды тоже сжег?
— Медальки в сундуке, только он заговорен, чтобы я пьяным в него не лазал. А у меня со вчерашнего еще не выветрилось…
К этому времени Шари смог впихнуть разбухшие ноги в сапоги и, получив не особо болючий, но крайне обидный тычок от пожарного, вывалился за дверь, в морозное осеннее утро.
— Это мы решим, — загадочно сказал старшина. — Ыразар, сбегай в кабак, скажи — от декана, возьми любой мундир из заложенных, только подешевле. Будут просить расписку — поставь крестик.
Вся эта суета нравилась Шари все меньше. Двинулись они со старшиной не к родному кампусу, где можно было сгоношить остальных историков и как-то выкрутиться, а прямиком к флигелю декана, стоящему во дворе величественного некогда, а ныне покосившегося и облезлого трехэтажного здания факультета.
В крохотной каморке Шари обнаружил свой сундук. Старшина выдал пузырек с мутно-белой жидкостью. Шари признал «трезвяк» — алхимический состав. Его изобрели как лекарство от чесотки, но использовали чаще, чтобы мгновенно вынуть нужного человека из опьянения или избавить от утренней боли. Шари понял, что с ощущением легкого осеннего похмелья, такого трогательного и мягкого, как грудь солдатской вдовы, придется попрощаться.
Залпом выпил зелье, посидел пару минут, выдыхая остатки вина, а затем распахнул крышку сундука. Внутри обнаружился выцветший кошель с серебром — «подъемные» 17-го полка, толстый кожаный платок — за войну Шари сменил четыре каски, а платок так и остался тот самый, первый. Еще был кисет с алхимическим табаком — курить Шари бросил, но дух пряного зелья уважал и теперь каждый раз, распахивая сундук, ощущал его.
И в самом низу, за четырьмя брикетами черного мыла и серой смертной рубахой, обнаружилась бархотка с шестью медалями и двумя наградными талерами.
— Вот! — вбежал пожарный.
После того, как ректор подписал договор с пожарными, худших надзирателей у студентов не было. Но и пожарным пришлось не сладко: они теперь часто «случайно» ломали ноги и руки, а пить осмеливались только дома и за запертыми дверями, потому что студенты — народ мстительный и терпеливый.
Шари натянул мундир.
— Сержантский, — отметил он. — С галунами. А я капрал.
— Плевать, цепляй медали, — ответил старшина.
Солдатские медали — начищенные железки с кусочками эмали, стертым серебрением и еле заметной ржавчинкой в глубине проволочного плетения. Но за каждой из этих железок Шари видел погибших товарищей, промозглые ночи в землянках, адский алхимический огонь, выжигающий окопы на десятки шагов, страх, боль и вонзающуюся изредка в мозг иглу надежды, пробивающую и каску, и плат, и давящее ощущение бессмысленности всей этой войны.
Поэтому после того, как последняя медаль заняла свое место на груди и Шари посмотрел на старшину курса, тот отшатнулся и чуть не сбил спиной пожарного: так сильно поменялся взгляд похмельного студента.
— Не боись, не трону, — сказал Шари.
Мундир с чужого плеча оказался великоват в талии, но в плечах сел отлично.
— Вперед, давай уже, — без уверенности сказал пожарный, тоже почувствовавший изменения в подопечном, и Шари, отвернувшись от них, толкнул дверь и прошел дальше. Это был кабинет, за широким столом сидел декан — пожилой толстый человек в выцветшем кафтане и в седом, завитом по моде прошлого века парике.