Звучащий след - [11]
— Ты должен был прийти в двенадцать, чтобы помочь мне мыться, — донеслись до меня слова «профессора», — а теперь без малого час. — И он занес свою мясистую лапу, собираясь обрушить ее на голову Тома. Когда я увидел это, у меня душа ушла в пятки и схватило живот, но я все же остался на месте. Почему Том не удрал или не швырнул горсть песку в глаза неуклюжему великану?
От испуга я, наверное, шевельнулся. Позади меня звякнул бидон. «Профессор» тотчас же опустил руку.
— Повесь табличку у колонки, — дружелюбно сказал он Тому.
Я прочел воззвание коменданта лагеря к интернированным: «Ввиду угрозы эпидемий предлагаю удалить из лагеря всех собак».
Теперь Том поливал «профессору» спину. Меня перестало занимать поведение этой пары. Везде, где только ни появлялся Том, обязательно что-нибудь да случалось. В его бараке не прекращались скандалы. Вчера, например, у одного долговязого шведа украли часы. Швед поклялся, что уложит вора на месте, если только поймает его.
Я вошел в свой барак.
На пороге я на секунду остановился. Разница в освещении — с яркого света дня я попал в тусклый сумрак барака — не так уж поразила меня, не потому я остановился. Сквозь бесчисленные щели сюда проникали сверкающие лучи солнца и, ударившись о стены, рассыпались золотой пылью. Какое-то смутное чувство подсказывало мне, что я сам — неотъемлемая часть всего, что я здесь вижу, слышу и обоняю. И оттого, что все это стало мне так близко, я волен либо считать все здесь своим, либо от всего отмежеваться. Эта мысль меня обрадовала. Она позволяла мне сохранять независимость по отношению к моим товарищам.
При виде Ябовского я внезапно подумал, что с ним дело обстоит иначе.
По его словам, он звался Зигфридом, ему минуло уже двадцать шесть и он был еврей, иначе говоря, жалкая тварь, которую можно пнуть ногой и она еще скажет тебе за это спасибо. И с ним-то мне приходилось есть из одной консервной банки — другой посуды в лагере не было: банок — и тех не хватало. Мне могли бы наливать жратву в шапку, как другим, но жидкая похлебка быстро просачивалась сквозь ткань, и на дне шапки оставалась только кучка гороха вперемешку с кусками картошки. Меня ужасно мучила мысль, что я вынужден подчиняться диктату окружающих. Все во мне кипело возмущением против рамок, в которые меня насильно хотели втиснуть. Но за кого мог я уцепиться? Каждая струнка во мне была натянута, когда я осторожным оценивающим взглядом ощупывал лица окружающих. Я знал здесь почти всех, хотя прожил вместе с этими людьми всего несколько дней. А у каждого, кто храпел рядом со мной, было достаточно своих забот.
Был там Мюллер — в прошлом жокей, маленький, жилистый, слегка припадавший на правую ногу, — жалкий смутьян, который всюду совал свой нос. Черт его разберет, что он за человек! В вагоне Мюллер так, ни за что, отдал мне полфляжки воды — той самой воды, за которую «профессор» предлагал ему недельный заработок французского рабочего. В ответ на это предложение Мюллер только презрительно усмехнулся. Но вчера он совсем один прокрался в дюны.
В конце концов, это даже неплохо, что Мюллер в одиночестве выкурил там свою сигарету. Если я начну зашибать деньгу, я тоже не буду раскрывать объятия первому встречному.
Был там еще Ахим, который из двух глаголов «возьми» и «дай», очевидно, знал только первый. Оживленная беседа, которую мы вели с ним в Генте, да несколько сигарет, которые он мне дал, сблизили нас. Он лежал на своем месте против Мюллера, обратив ко мне узкое, нервное лицо. Я глядел на него не без зависти.
Я осторожно вытащил ноги из песка. За причудливым переплетом веревок, на которых висело наспех выстиранное белье, сидел Мюллер. «Делает из дощечки подошвы для сандалий, — решил я. — Ясно, планку он отодрал от пустующего барака, а подошвы потом продаст».
Стараясь не шуметь, я через соседа пробрался на свое место. Лежа на животе, я глядел в его лицо, изуродованное синими шрамами. Глубокий шрам шел вдоль носа Ябовского, рассекал его верхнюю губу и терялся во рту. Одно плечо подпирало подбородок, рука, высохшая, как сломанный сук, была бессильно скрючена. Сейчас он лежал на боку, и искалеченной руки не было видно.
К его здоровой руке притулился Бобби — маленький песик, покупавший себе жизнь ценой собачьей преданности. От каждого он что-нибудь получал, каждый из этих суровых парней ласкал его своими грубыми и нежными руками, и за это Бобби изо дня в день помогал нам коротать время между двумя раздачами пищи.
Я увидел собаку и забыл проверить содержимое моего чемодана. Сложив губы трубочкой, я пытался легким посвистом приманить к себе живой серый комочек. Бобби поднял свою хмурую щенячью морду. Его карие глаза, наполовину прикрытые огромными мягкими ушами, пристально глядели на меня. Быть может, Бобби заметил на моем лице следы презрения, с каким я только что смотрел на Ябовского. Так или иначе он не тронулся с места.
— Ты позволил Ябовскому запугать тебя, — упрекнул я щенка.
При звуке своего имени Ябовский беспокойно заметался во сне, бормоча какие-то бессвязные слова. Раздраженный, я зло поглядел на него. Скрюченная рука спящего бессильно царапала песок. Это бессознательное движение было жалкой попыткой вернуть руке ее былую силу, все еще жившую в памяти Ябовского.

Суровая осень 1941 года... В ту пору распрощались с детством четырнадцатилетние мальчишки и надели черные шинели ремесленников. За станками в цехах оборонных заводов точили мальчишки мины и снаряды, собирали гранаты. Они мечтали о воинских подвигах, не подозревая, что их работа — тоже подвиг. В самые трудные для Родины дни не согнулись хрупкие плечи мальчишек и девчонок.
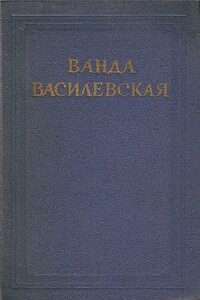
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга генерал-лейтенанта в отставке Бориса Тарасова поражает своей глубокой достоверностью. В 1941–1942 годах девятилетним ребенком он пережил блокаду Ленинграда. Во многом благодаря ему выжили его маленькие братья и беременная мать. Блокада глазами ребенка – наиболее проникновенные, трогающие за сердце страницы книги. Любовь к Родине, упорный труд, стойкость, мужество, взаимовыручка – вот что помогло выстоять ленинградцам в нечеловеческих условиях.В то же время автором, как профессиональным военным, сделан анализ событий, военных операций, что придает книге особенную глубину.2-е издание.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.

От издателяАвтор известен читателям по книгам о летчиках «Крутой вираж», «Небо хранит тайну», «И небо — одно, и жизнь — одна» и другим.В новой книге писатель опять возвращается к незабываемым годам войны. Повесть «И снова взлет..» — это взволнованный рассказ о любви молодого летчика к небу и женщине, о его ратных делах.
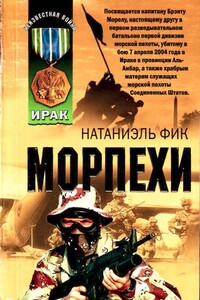
Эта автобиографическая книга написана человеком, который с юности мечтал стать морским пехотинцем, военнослужащим самого престижного рода войск США. Преодолев все трудности, он осуществил свою мечту, а потом в качестве командира взвода морской пехоты укреплял демократию в Афганистане, участвовал во вторжении в Ирак и свержении режима Саддама Хусейна. Он храбро воевал, сберег в боях всех своих подчиненных, дослужился до звания капитана и неожиданно для всех ушел в отставку, пораженный жестокостью современной войны и отдельными неприглядными сторонами армейской жизни.