— Я не думаю…
— А лучше подумать. Я кое-что в издательском деле понимаю. Я знаю, какие у тебя машины, где и почем ты покупаешь бумагу, краски, сколько рабочим платишь. Ты, мне кажется, половину вчерашнего для высчитывал, какие затраты потребуются на издание. А я тебе отвечу сразу: одна копия обойдется тебе центов в шестьдесят пять, может на пару центов дороже. Еще будут затраты на рекламу, на доставку в магазины — и после того, как ты мне отдашь четвертак, у тебя останется еще два. А я всегда, когда самому лень чем-то заниматься, предлагаю партнеру две трети прибыли, забирая себе треть.
— Мистер Волков…
— Зови меня Алекс. Если поспешить, а не жевать сопли, то книгу можно напечатать как раз в ежегодной книжной ярмарке. А на выручку с ярмарки купить, например, вот ту грязную пивную, помыть ее, поставить у двери парня с длинной бородой, и всем входящим — за пять центов — давать напрокат очки с зелеными стеклами. А внутри стакан имбирного эля продавать под названием "напиток храбрости" за десять центов…
Мистер Хилл слушал внимательно, и на губах его появилась чуть заметная улыбка.
— Ну а потом с каждого такого "Эмеральд Сити" мы будем забирать десять процентов только за то, что позволим их вышибале приклеить бороду. Которую, вместе с очками, мы же им и продадим за тройную цену…
— Ну что же, Алекс, сказки ты сочинять умеешь. Я с удовольствием одну прочитал, а вторую выслушал. Ну а теперь я тоже повторю: восемь центов.
Когда я познакомился с Генри Альтемусом, чье издательство находилось через два дома от моего тогдашнего офиса в Филадельфии, ему уже восемьдесят стукнуло. А пока… пока ему тоже за семьдесят уже было. Но, в отличие от Джорджа Хилла, он сказки не только печатал, но и верил, что сказку можно все-таки сделать былью. Так что через две недели я покинул Америку с парой тысяч долларов аванса в кармане, по тысяче за книгу. А в конце июля в Чикаго, на месте той самой пивнушки напротив издательства Хилла, открылся — за день до закрытия книжной ярмарки — ресторан "Изумрудный город". Думаю, мистер Хилл ногти сгрыз до локтей, глядя на протянувшуюся через всю улицу очередь желающих хлебнуть стаканчик имбирного эля за тройную цену…
В Петербурге я наведался в давно знакомый мне дом. Николай Владимирович выглядел неважно, и в доме стоял какой-то тяжелый дух. Ну а в комнате деда и аромат: все же Никифор-денщик — сам был далеко не первой молодости. Но все же денщиком — и порядок в доме старался хранить. На присланные мною перед поездкой в Америку деньги он нанял приходящую прислугу, так что все, что можно, было выстирано, выглажено, вычищено. Мне лишь пришлось сходить в Морской госпиталь и самому договориться о ежедневных визитах санитаров, которым за это еще и отдельно приплачивалось, а в каретной мастерской у ипподрома заказать кресло на колесиках, чтобы дед мог — хоть и с помощью денщика — все же передвигаться. Так что когда я покинул Петербург, дед и сам был вполне ухожен и выглядел он гораздо лучше. Денег на уход за дедом теперь точно хватит, да и проследить, чтобы они не напрасно тратились, есть кому — на Никифора была взвалена обязанность следить, чтобы санитары не расслаблялись. Но все же из города я уезжал со слезами на глазах: иногда плата за то, что ты что-то просто не сделал, становится почти неподъемной в моральном смысле…
В Петербурге я провел почти неделю, почти все свободное время разговаривая с дедом — точнее, рассказывая ему разные "сказки" о моем прошлом и будущем. Ну а перед самым отъездом — когда кресло уже доставили и дед мог передвигаться по дому — пригласил на обед "дедов". И Николай Владимирович был по-настоящему счастлив — ну что же, я сделал все, что мог. Теперь мог…
Мог сделать для деда — а нужно было кое-что сделать и для страны. Середина июля — не самое лучшее время для начала этой работы, но теперь у меня были деньги, и был четкий план предстоящей работы. Проверенный на практике — ну, в какой-то части проверенный. И теперь осталось лишь его осуществить…
Петр Григорьевич еще раз посмотрел на собеседника. Но нет, похоже от истерики и следа не осталось, только взгляд какой-то… стеклянный, что ли, сделался. И голос… таким его, помнится, расследователь из полиции спрашивал, только этот вопросы совсем иные задает:
— Петр, еще раз прошу, все, что в этот день было. Что сам видел, что знаешь — все в подробностях.
Петр удивился, однако подобрался и изо всех сил стараясь держать себя в руках, ответил:
— Ладно, дело прошлое… всяко уж этим делом мне не заниматься, скажу. Мы-то мыло на спирте стали варить, чтоб прозрачное оно получалось. Куб, конечно, поставили, чтобы спирт обратно собирать — но все равно что-то уходило. А рабочие сообразили, и потихоньку отпивали: поди проверь, сколько спирту испарилось-то! Как мыло варить — так все пьяные… Ну а пьяные-то разве заметят, если кто придет?
— Постой-постой… что, все пьяные? Ведь, если я помню, там и бабы работали, и дети…
— Так своровать-то все горазды. Да какие дети — лбы здоровенные… Все пьяные ходили — значит все и воровали. Иначе с чего бы?
— Ну, много с чего опьянеть можно. Сам же говорил, что испарялось…

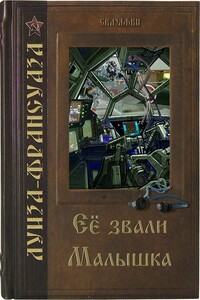

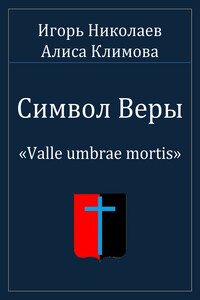



![Время мечтать [повесть и рассказы]](/storage/book-covers/ff/ff78f61582c7cc7d46b3752f781fae4383c2a2da.jpg)



