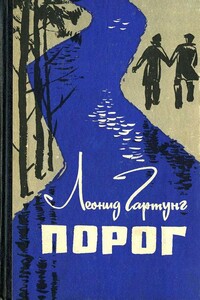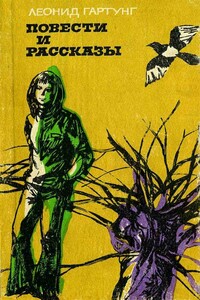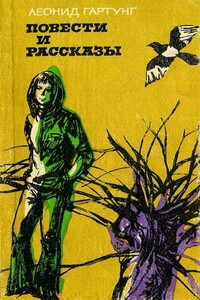— У меня голова не держит того, чего нельзя понять. И от такого пустяка зависит судьба человека. — Тут же решительно добавляет: — Работать буду и готовиться. Мама советует на бухгалтера учиться. А я не хочу. Косточки гонять не по мне.
— А что по тебе?
— Не знаю, куда и кинуться, — признается девушка. Трудно ей принять решение. Делится своим горем: — Мать жалко и совестно, что не сдала. Ведь, бывало, дома возьмусь за что-нибудь, а она отнимет: «Оставь, я сама. Тебе заниматься надо». Весной дрова и то не позволяла резать, чтобы только к экзаменам готовилась. И вот, провалила. Бабушка приезжала, так даже не поцеловала. Я к ней: «Бабонька». А она мне: «Уймись, стрекоза. Что бабонька? Бабонька свой век прожила, теперь тебе жить. Вон вымахала какая, заневестилась, а ума не нажила».
* * *
Изредка захожу к Невьяновым. Семен Иванович держится со мной вежливо, но несколько сухо. Однажды встретил меня просьбой:
— Хоть бы вы, Виктор Петрович, посоветовали насчет Надежды. Куда ей теперь?
Был он хмельной, выпил немного после бани.
— На будущий год сдаст, — обнадежил я его.
— Не сдаст. В голове у нее ветер.
— Отец, — остановила его Полина Михайловна. — Посовестись.
— Ты не мне о совести говори, — вскипел Невьянов, — а ей вон. Просвистела десять лет.
Надя пыталась уйти, но отец вернул ее с порога.
— Ты куда? Сиди, слушай. О тебе речь.
Она замерла у подоконника.
— Семен Иванович, — вступился я за Надю. — На одно место было по нескольку человек.
— Знаю. Но кто-то же поступил? Почему не она? Или ей условий не дали? Все ей: и босоножки христовы из одних ремешков, и жакетку мятого бархата, и косынки «газированные». Мать вон даже капроновые чулки подарила. Проку-то в них! Что есть они, что нет — все равно не видно. На тебе, дочка, всякие утехи девичьи. Учись только. И вот вам — отблагодарила!
— Не всем высшее образование иметь, — вступилась Полина Михайловна. — И без высшего честные люди живут.
— Так нечего было нам голову крутить. Теперь вот что, мать, бархатную жакетку в сундук, босоножки туда же. Капроны в печь — ни на что другое не годны. Не к чему фасоны наводить — модиться. Дадим ей сапоги резиновые и марш, на свинарник.
— Ну и пойду, чем испугали! — вскрикнула Надя. — Завтра же пойду. Что, там не люди работают?
— Иди, иди! Там Фенька с тремя классами. Там Нюська Брындина с пятью и дед Зотыч, который ни одной буквы не знает.
— Сам-то ты сколько кончил? — напомнила ему Полина Михайловна.
— Что я? По мне равняться нельзя. У меня капронов не было. У кулака Звягина с десяти годков вкалывал за харчи да за рубаху ношеную. Читать учился без книг: теленка хромого около кладбища пас и на крестах надписи разбирал, так и буквы выучил, а складывать их не умел. Если б не Советская власть, то и по сей день кнутом бы щелкал. Надежде бы хоть десятую долю моего стремления. Я первый в районе на трактор сел.
Он снял со стены фанерную рамочку с фотографией, протянул мне. Всматриваюсь в выцветшие, пожелтевшие контуры: на лесной поляне трактор поднимает целину. Вся деревня бежит вслед. Наклоняются, измеряют глубину борозды.
— Вот, смотрите!
Лицо парня знакомо — во взгляде его счастье и вызов, ветер раздувает буйные вихры. Семен Невьянов!
Семен Иванович не унимается:
— Я первый из мужиков в ликбез пошел и до сих пор беспрерывно учусь. Учусь всю жизнь и все-таки невежда, потому что сразу правильного направления не получил. С крыши дом строить начал, а фундамента нет. Что в школе за день проходят, я месяц своим умом постигал. Теперь по тракторам и машинам все до тонкости умею, а вычислить что-нибудь надо — и стоп. Мне бы математику, так я бы, пожалуй…
— Ну, расхвастался! Человека бы постыдился, — оборвала его жена.
— Так вот я и спрашиваю: чем наша Надежда хуже тех, других? Почему в институт не поступила? Потому, что ей ухажеры головы закрутили.
Мать подошла к Наде, обняла ее.
— Не слушай его. Хмельной он. А ты хватит, отец. И без тебя ей тошно.
— Однако, замуж ей надо. Вон за Никиту гнусавого, — кивнул Семен Иванович, идя к двери.
— Не болтай зря. — Полина Михайловна сняла с вешалки пиджак, протянула его Наде. — Отнеси ему, а то простынет. — Печально подняла на меня серые, усталые глаза. — Вы уж простите старого. Переживает. Все говорил прежде: «Надя должна шагнуть далеко вперед, как я шагнул от своих родителей». Родители его весь век свой в людях жили, батрачили. А он все же бригадир, механизатор. Федя на фронте погинул, так он на Надюшку все надежды возлагал. А она шагнула, да на первом шаге и запнулась.
Позднее Надя рассказывала:
— После вчерашнего отец глаз не поднимает. Делает вид, что сердится, а самому стыдно. Не люблю его хмельного. Говорит, говорит и остановиться не может. Жакеткой попрекнул. Неужели мне самой не совестно?
— Он любя.
— Все одно — обидно. Но теперь я решила окончательно: в институт поступлю. Вызубрю всякие эти «прочь» да «навзничь» и сдам. Не для отца и не для диплома. Стану животноводом. Я ведь и раньше хотела. — Улыбнулась, вспоминая: — Ты меня смутил в медицинский.
— Вот так-так! Ни слова не говорил.
— Шучу. Сама я выдумала, что мне в медицинский хочется.
— Значит, хорошо, что в медицинский не сдала. Теперь поступишь, куда мечтала.