Зона - [50]
Меня ударил мент
Сразу после праздников бригаду потрясли два события. В первый же рабочий день, 2 или 3 января отличился прапорщик Пономарев, или как их обычно зовут — прапор Пономарь. Его побаивались. Рыжеватый верзила с пустыми, обиженными, голубыми глазами не пропускал случая пустить в ход увесистые кулаки или испытать зековскую задницу пудовыми сапогами. Недавно он распинал одного нашего зека на глазах у отряда, гоняясь за ним по локалке. Не помню, положили ли этого зека в санчасть, но хорошо помню, что сидеть он долго не мог. Случаев таких было много, зеки боялись и ненавидели Пономаря, но штаба боялись еще больше и, потому не жаловались. Это не принято. Во-1-х, как я уже говорил, зеки боятся бумаги — привыкли, что всякая бумага, будь то приговор, постановление или жалоба, оборачивается не в их пользу. Во-2-х, какой смысл жаловаться на мордобой тем, кто сажает в ШИЗО или ПКТ, уж лучше снести кулаки, чем отсиживаться в камере, ментам на мента не пожалуешься. Это не значит, что в штабе ничего не знают. И не то, чтобы смотрели сквозь пальцы. Наоборот: так и надо. Мордобой практикуется как обычное средство работы с зеками, служба, понимаешь, такая. Бьют везде. Прапора более открыто, офицеры, опера предпочитают при закрытых дверях. И все они насаждают, приветствуют и даже провоцируют мордобой среди зеков. Главный метод сдерживания, повышения производительности и расправы с неугодными. Если ты завхоз, бригадир, то тебе дано официальное право лупить других зеков. Ни один мент не вмешается, скорее, мало, скажет, добавь еще. Ибо это в интересах администрации. Битый зек становится послушней. Когда зеки держат в страхе друг друга, администрации меньше хлопот. Пример такого воспитания и исправления подает сама администрация. Правда, штатные менты, офицеры бьют избирательно: знают, кого можно, кому нужно, а кого лучше не надо. На то они и офицеры, они умные. Дуракам же закон не писан, ну, а кто идет в прапора? Пономарь даже среди прапоров отличался бесноватостью.
Они вошли вдвоем во время утреннего обхода. «Почему не работаем?» Ну, тут тысяча причин: ждем вольняка, не знаем, что делать, ямы заледенели, болит живот, только пришли и т. д. Впрочем, вопрос задан машинально, в силу привычки, по долгу службы, прапорам, почему мы не работаем — наплевать. А просто завидно: мы тут сидим, в тепле, а они с похмелюги вынуждены болтаться по промкам, по морозу, не зная, куда себя девать. Да может в штабе на инструктаже еще настроение подпортили, что плохо работают. Один прапор стал шмонать в бендежке, а Пономарь прошел в отсек, где стояли мы с Юрой Приваловым. Придраться вроде не к чему, а глазища налитые — зло сорвать надо. Прицепился к самодельной печке — спираль на шлакоблоке: «Отключай!» Но другого обогрева нет, мерзнуть нам, что ли? «Кому сказал?» — рычит уже Пономарь. Юра с ворчаньем потянулся к выключателю. «Куда прешь? — ревет Пономарь. — Рви провода, на хуй!» «Нельзя, — говорю, — это дело электрика». Полыхающая спиртовая лужа глазищ уставилась на меня: «Умный больно?» Вот уж чего они смертельно не переносят, второй год слышу одно и то же оскорбление. «Почему куртка расстегнута?» — и Пономарь ударил меня в живот. Не то, чтобы сильно, на ногах я устоял. Впервые меня ударил мент. «Юра, ты свидетель, я сейчас же иду в штаб!» «Иди, — Пономарь надвинулся, — еще хочешь?» Я молча смотрел в упор. Но то ли другой прапор позвал, то ли спохватился Пономарь, то ли разрядился — они тут же ушли, оставив в покое и печку, и бригаду.
Я написал заявление и отнес начальнику колонии Зырянову. После обеда вызывают в штаб. ДПНК старший лейтенант Багаутдинов («Бага») сажает меня в своем кабинете за стол и заводит душевную беседу. Мол, Пономарев говорит, что не бил, а просто сделал мне замечание, ведь правда я нарушил форму одежды, пуговица у меня была не застегнута? и нечаянно меня толкнул. От меня требуется написать новое заявление — вот с такой версией, из которой бы следовало, что в первом заявлении я оклеветал скромного прапорщика. Я сказал, что коли так ставится вопрос, то я напишу прокурору, тем более, что у Пономарева это не первый случай руко- и ногоприкладства и полно свидетелей. «Ну, а если он перед вами извинится?» «Тогда посмотрим, но врать на себя я не буду». Бага оставил меня за столом, а сам вышел. Долго никого не было. Затем пришел Пономарь. Вы не поверите, но он понуро стоял передо мной и просил прощения: «Извините… погорячился… сам не знаю как вышло… больше не буду». Большой рыжий детина, гроза зоны канючил, как ребенок. Ну, как судить их за жестокость, если они дебилы? Судить надо тех, кто ставит этих дебилов для работы с людьми, кто натравливает их на людей. Я сказал, что извиняю его при условии, что он никого больше пальцем не тронет. «Клянусь, честное слово, никогда…» Ах, как он смотрел на меня! Казалось, скажи и брякнется на колени. Это уж было чересчур, пример того, как тот, кто унижает других, сам легко идет на унижение. В этом, собственно, низость всякого произвола — его возвышает только сила, перед другой силой он падает ниже, чем те, кого он унижает. Стало неловко и даже жалко Пономаря. Можно ведь извиниться, не теряя достоинства. Только его у них нет: ни тогда, когда они лупят, ни тогда, когда их лупят. Весь этот гонор перед беззащитными зеками — одна показуха: молодец среди овец. И непривычно мне было в зековской робе вдруг поменяться с ним местами. С чего бы такая честь? Помня о просьбе Баги, я сказал Пономарю, что, поскольку мы с ним договорились, готов извинить его и в письменной форме попросить, чтобы его не наказывали: «Нужно такое заявление?» «Не знаю, — растерялся Пономарь, — и тут увидел вошедшего Багу, — начальник скажет». Я написал новое заявление.
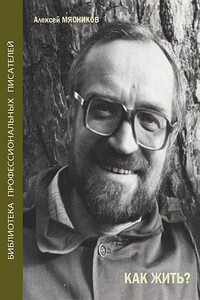
Эта книга, состоящая из незамысловатых историй и глубоких размышлений, подкупает необыкновенной искренностью, на которую отваживается только неординарный и без оглядки правдивый человек, каковым, собственно, её автор и является.
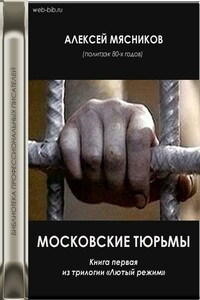
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда.

Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда.
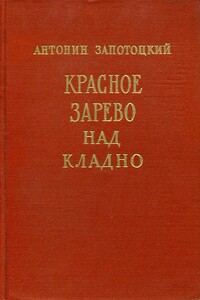
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
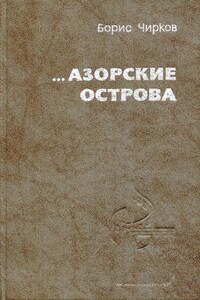
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
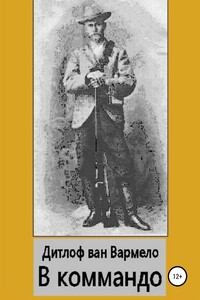
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.