Зона - [5]
И тут выяснилось нечто ужасное. Вот почему тот парнишка, мой ближайший сосед был синюшнее бледной поганки — он в этом аду уже две недели. И не он один. Люди ждали этапа неделями, и было непостижимо как они выдерживали. Два окна, глухо задраенные сетками и решетками, не пропускали ни света, ни воздуха. Толкан, унитаз то есть, наоборот, пропускал все, что в него ни наваливали, текло на черный цементный пол. Должна быть вонь, но духота такая, что ничего не чувствовалось. Широкими глотками учащенно вдыхали камерный смрад в поисках атомов кислорода. Вентиляция, если она здесь и была, лишь добавляла жару, стояли жаркие июньские дни. Когда давали баланду, люди грудились у кормушки — дышали. Подвальный тюремный коридор тоже не кислородная подушка, но все же оттуда проникало нечто похожее на воздух. Просили открыть дверь, никуда бы мы не делись — была вторая защитная дверь в крупную решетку. Нет. Ну, хотя бы не закрывайте кормушку. Нет, захлопнули. Стучали, умоляли. Потом дверь все же открыли. То ли смена пришла добрее, то ли пока в коридоре пусто, никого не проводят. Так и маялись: то откроют, то закроют. Кто похитрей, не спешил вглубь камеры, норовили осесть ближе к дверям. Все смешалось в доме Облонских — лучшие места у порога.
Нет, это физически нельзя было бы выдержать, если б не полчаса прогулки. Выводили длинными коридорами этажа на четыре, куда-то на крышу. Те же, естественно, камеры, но без потолка — синее, синее небо, солнце, от воздуха голова кругом. Тюрьма — в центре промышленного Свердловска. Город не видно, но я тут служил и жил и знаю, что кругом заводы, а не сосновый бор, и все же воздух этот с заводской гарью казался блаженнее курортных солярий черноморского побережья. Собирался я в Пицунду, устроили мне ее здесь, на крыше свердловского централа. Правда, лишь полчаса в день. Жутко мало, но все же достаточно, чтоб продержаться сутки до следующей прогулки. В другие дни чаще водили во двор тюрьмы. Там клетки поменьше. Все стены, двери исписаны. Странное дело: похабщины почти нет, во всяком случае, куда меньше, чем в туалетах столичного университета или публичных библиотек. В основном надписи типа: «Толян Ч. — иду на Ивдель», или указана кличка и камера, где сидит, или «Танюха, ты где?» (значит тут и женщин прогуливают), или на ком-то клеймо: «Кроха — козел» (значит все об этом узнают, и не миновать Крохе разборки, где бы он ни сидел). И всюду непонятные закорючки: (Т) и (знак) с прибавкой клички, имени, реже фамилии. В московских тюрьмах я таких знаков не видел. Оказывается все просто: «привет» такому-то «от» такого-то. Зековская лапидарность.
И ежечасно, ежеминутно, где бы ни был в камере ли, во дворике ли, стучит в висках острый клюв: когда? куда? В транзитке скрещиваются самые разные направления — кто с Востока на Запад, но больше, конечно, с Запада на Восток, на север Урала. Многие знали, куда именно: Омск, Краслаг, Улан-Батор, Чита. А может, не знали — болтали, тут модно выдавать себя за всезнающего. Мой ближний парнишка «подымается», как он говорит, с Верхнетуринской малолетки в Курган. Кто с зоны на поселение, кто в лагерную больницу, кто из больницы. Тот оголтелый Башир-дербанщик (он ходит в «милюстиновом» костюмчике, гоголем, присосался к блоти наверху) возвращается из Тагильской больнички в родную 47-ю. Это новая зона, она в Каменск-Уральске. Общего режима, значит теоретически и я могу туда попасть. При одной мысли дыханье прихватывает. Это ж, считай, мой родной город. Я там в школу пошел, в первый класс. Году в 55-м мы переехали в Челябинскую область, но и сейчас в Каменск-Уральске где-то живет мой шальной отец, бабушка, тетка, племянницы, целый выводок их родни. Туда попасть — это ж к себе домой. Действительно, неисповедимы пути Господни: через четверть века возвращаюсь на круги своя зеком. Догулялся, созрел. Да нет, быть не может, чтоб меня на 47-ю. Менты наверняка в курсе и потому можно с уверенностью вычеркивать Каменский вариант. Чуда не будет. Благо и помимо Каменской зоны выбор большой. Две отчие зоны в самом Свердловске: 2-я и 10-я, одна где-то в Невьянске, да мало ли их в уральском горном краю! Скорее всего, наш московский этап готовят в какие-то из этих, но никто не исключал и того, что могут отправить дальше.
Впрочем, на второй день в этой камере уже не имело значения куда, все заслонил один вопрос — когда? уже на второй день мы изнывали от духоты, жары и неимоверной теснотищи. Невыносимо. Время каленое, тягучее стояло на месте. Любой бы из нас эти сутки, не задумываясь, отдал бы за месяц в другом месте, пусть еще хуже, но только не в этой камере, на все ведь пойдешь без разбора, чтоб не подохнуть. Говорили, что перед нашим этапом заходил в камеру мент и ответил на жалобы так: «Кто больше двух недель, пиши заявление». Кажется, есть инструкция, по которой транзитных нельзя задерживать более двух недель. Но вряд ли какая инструкция предусматривает превращать камеру в адское пекло, в таких условиях уже десять дней — чудовищный срок, хуже карцера, люди на глазах превращаются в анемичных, синюшных доходяг и вот они, кто больше десяти дней, подходят ко мне: «Профессор, напиши». (Ученое звание здесь дают проще, чем на воле. Достаточно очков. Кликуха прилипла прочно). Освободили стол и с почтением обступили, как в старину на восточном базаре. Я строчил заявление, смотрел приговоры, писал жалобы. Обычное занятие. Но не безобидное. Бывалые зеки предупреждают: «Хлебнешь горя, менты писателей не любят». Я это знал. А что делать? Не протестовать нельзя, не помочь нельзя. Только просил, чтоб переписывали своей рукой.
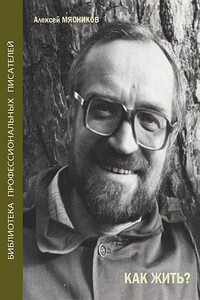
Эта книга, состоящая из незамысловатых историй и глубоких размышлений, подкупает необыкновенной искренностью, на которую отваживается только неординарный и без оглядки правдивый человек, каковым, собственно, её автор и является.

Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда.
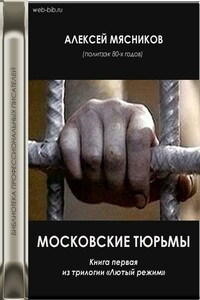
Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.