Золотые кресты - [102]
Камчатовы приехали прямо к обедне всею семьей: старик-генерал, по старинному с бакенбардами, с потертою золотой канителью на послуживших погонах и палкою, с массивным набалдашником в еще крепких руках, Татьяна, лицо которой я разглядел лишь мельком (оно было бледно и голова низко опущена), и Татьянина тетушка, сестра генерала, бездетная вдова Алексеева, Агния Львовна. Народ перед ними слегка расступился, и они прошли в церковь. У самого входа случайный порыв теплого ветра взвеял над шляпой Татьяны изжелта-фиолетовый конец ее шарфа; узкая ручка в белой перчатке, как чайка на солнце, сверкнула вослед ему.
Мгновенное видение это кольнуло мне сердце сладостной болью. Сегодня… Нет, через четверть часа, как только войдет к службе народ, я буду у Аграфены.
В эти четверть часа я услышал последние, свежие новости об отце ее и о деде. Все началось, как оказалось, из-за желания старика читать сегодня «апостол». Он укорял еще с вечера, сам за бутылкою водки, пьяного зятя в том, что тот не соблюдает себя, что служение в церкви несовместимо с преступной пьяною жизнью (при этом язык его заплетался) и что, словом, он решительно не допустит такого позорища, такого «священно-кощунства» и будет читать «апостол» сам. Священник наш, старичок о. Николай, хоть и сам не грешивший к вину непобедимым отвращением, но никогда не терявший себя и на ноги исключительно твердый, заявил, как оказалось, в перерыв между обедней и утреней, что также не благословит к выходу перед амвоном Матвея Никитича, у которого все лицо было в сплошных синяках, и предпочтет ему старика: под седою растительностью на щеках его многое оставалось невидным. Тогда зять выманил, как мне передавали, престарелого тестя в боковые, стеклянные двери (сбегав к себе домой предварительно) и захваченным с собою безменом, крючком рассек ему щеку возле самого рта. «Пусть читает теперь с разодранным ртом», сказал он при этом. Это было уже чересчур, веселья в этой расправе было немного… Но Федор Захарыч, старик, повыв немного от боли, с зажатым кровавой рукою надорванным ртом, прошел-таки, не уступая, на клирос.
Каждый раз, как я слышу о подобных вещах, творящихся у нас запросто, я почти физически чувствую, какой хаос шевелится еще в человеке и как грандиозны те силы вселенной, которые лепят из живого огня скульптуру видимой нашей, человеческой законченности, определенности…
Под впечатлением этой кошмарной расправы отправился я, отпросившись у Никифора Андреича, на свидание к Аграфене. Он проводил меня угрюмым, подозрительным взглядом. Я даже приостановился, думая, что он мне что-нибудь скажет, но он пренебрежительно отвернулся и, сплюнув, полез за кисетом. Я медленно пошел, огибая ограду, к дьячковской избе; ноги мои ступали тяжело и в поступи не было уверенности. То, что я решил про себя, как казалось мне, окончательно, было снова чем-то во мне поколеблено. И было такое смутное ощущение, что праздничный день, начавшийся кровью у церкви, кончится чем-то еще более страшным. Если что и хранит в нас хаос, так это она, наша дикая вольница в жилах — жаркая кровь, и выпускать ее на дневной свет нельзя безнаказанно.
Неисправимый в размышлениях своих теоретик, я построил себе в это утро такую концепцию: если прежняя моя жизнь протекала главным руслом в отвлечениях и абстракциях, хотя раньше мне так и не казалось, то и теперь полярного размаха маятника моего, обращенного острием к Аграфене, также будет достаточно; в этих внутренних, во мне самом замкнутых, переживаниях и страстях было уже завершение. В сущности, думал я; я уже перешел через роковой мой порог в моем внутреннем опыте, и Аграфена, живая, мне теперь не нужна; в этом и был мой секрет. Я почитал себя уже внутренне зрелым, перегоревшим, познавшим мужем какой-то жены, которая должна была только откинуть вуаль, и сердце шептало мне, замирая, что я увижу за ним милый облик Татьяны; это она сомкнет свои нежные руки и оградит отрадной оградой мой земной, мой зацветающий спустившимся небом, выстраданный в муках, живой рай любви.
Я принял, как благостный знак, что Татьяна дала мне срок до шестого. Праздник Преображения, любимый мой с детских лет, по-новому открывался сегодня, как чудесный прообраз божественной сущности тела, связанный так наивно, правдиво и мудро с разрешением вкусить от плодов земных; и восприятие это настраивало меня лирически-восторженно…Я шел к Аграфене и сквозь нее, женщину, чаял увидеть облик иной; женский же, но преображенный, воплотивший гармонию духа и тела.
Я шел со словами привета и благодарности. Я отгонял от себя воспоминания дурманящих Аграфениных чар, еще нынешней ночью с прощального (как мне думалось) силой настигших меня. Я был благодарен ей, но и… жесток. Опять я ставил себя в центре событий и действующих лиц располагал по отношению к ходу моих переживаний. А что же тогда Аграфена сама по себе, хотя бы только женщина в ней?
Я замедлил шаги и, наконец, вовсе остановился.
Ведь эта, запачкавшая церковные плиты, стариковская кровь была и Аграфененой кровью, и под ее душистою кожей она текла и пульсировала своей таинственной жизнью, что-то тая… Мне вдруг сделалось страшно, точно я наклонился к обрыву, на минуту зарябило в глазах, и кусочек земли с церковной оградой, о которую я стоял опершись, и с темным домиком в три окна, от которых не отрывался, поплыл знакомым ощущением, — отделяя меня от Татьяны, молившейся в церкви.

"Пушкин на юге" — первая часть дилогии "Пушкин в изгнании" известного советского писателя И. А. Новикова. В романе повествуется о пребывании опального А. С. Пушкина на юге, о его творческих исканиях и свершениях.

Роман «Пушкин в Михайловском» — вторая часть дилогии И.А.Новикова «Пушкин в изгнании». В нем рассказывается о псковской ссылке поэта.

… Те, кто уехали, я их не осуждаю, Я не о политиках, а о покинувших родину — так… разве лишь оттого, что трудно в ней жить. Не осуждаю, но не понимаю, и жалко мне их. Трудно? О, да! Но ведь и там не легко… А жалко — еще бы не жалко: скитаться не дома!…
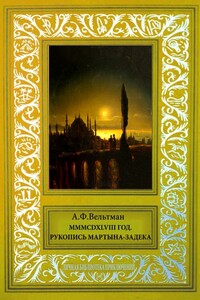
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
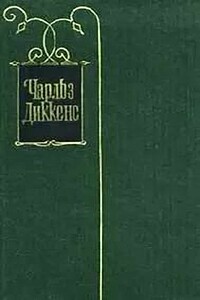
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
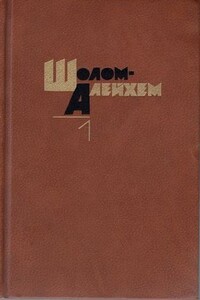
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.