Золотое сечение - [15]
Это обостренное чувство жалости к самому себе, возникшее так сильно и самолюбиво, выразилось у меня своеобразно. Продолжая лихорадочно читать, поглощая горы отцовских книг, уносясь воображением то во времена Дантона и Робеспьера, то в эпоху Кромвеля, я стал угрюм, замкнут и груб. Мои домашние казались мне нелепыми, жалкими. Меня изводило, когда я шел за покупками с матерью. Нес ей тяжелые сумки, слонялся за ней по бесчисленным базарам и магазинам, выстаивал нудные очереди, изнемогал от обилия сытых, равнодушных лиц.
Мне были противны эти низкие уродливые мясные ряды, где с храпом рубили мясо багроволицые рубщики в грязных, окровавленных фартуках, а очередь торговалась, брезгливо выбирала распластанные, дурно пахнущие куски, ругалась из-за ляжек или грудинок, скрипела дерматиновыми сумками и набитыми авоськами… Мне было стыдно, когда весной, как обычно, я, щурясь на солнце, вылезал под руководством бабушки на наш низкий, почти до земли, подоконник и мыл грязной тряпкой почернелые от копоти и сажи окна, тер их газетой и видел в стекле свое жалкое, изможденное, добросовестное лицо послушника… Отчаянное противоречие между далеким прекрасным миром, где я мог бы жить, и этим, в мутных подтеках, скрипучим стеклом, изводило меня. И все прохожие, казалось, ехидно подсмеивались над моими потугами, над этой нелепой худой фигурой длиннорукого подростка, распятого на подоконнике.
Школа, ранее однообразная и будничная, теперь стала для меня несносной. Глупыми были и девчонки со своими лошадиными челками, угристыми носами, крахмальными лентами в косицах.
Унылы были собрания, где по дурным литературным шаблонам мы препарировали друг друга, обижаясь и негодуя, наступая на горло и взаимно выкручивая руки. Мальчишек охватил какой-то дурман истязания, и сам я, поддаваясь общему настроению, беспрерывно кого-то обвинял, выводил на чистую воду, тайно мучимый тщеславием и раздвоенностью перед глупостью происходящего, перед этими бледными, в багровых пятнах лицами разгоряченных одноклассников.
Эта подозрительность по отношению друг к другу, это желание строгать и кромсать, подогреваемое самолюбием, изматывали меня. Я остро чувствовал иронию Феофана, его хмыканье после очередного известия о наших доблестных самосудах. Я не понимал, чего он хотел бы добиться от нас, и упорное его нежелание выделять меня из общей массы, приветить и одобрить мое рвение обескураживало и вызывало досаду. Даже мои сочинения, возвращаемые неизменно с пометкой «изрядно», предназначались лишь для внутреннего употребления и никогда не зачитывались в классе…
Словом, мое средневековье, моя глухая пора продолжались, и даже город — мой старинный, бесценный, любимый теперь город — не мог тогда вывести меня из тоски. Мучимый одиночеством и обидой, подогреваемый воображением и полусиротством, я наконец, почти дойдя до исступления, начал… писать…
Первые корявые строчки, тайные и топорные, легли в тетрадь, обшитую вельветом и подаренную мне девочками класса по случаю военного праздника. Началась новая жизнь…
О чем я мог писать, не зная и не понимая мира, в котором жил, не замечая деталей, почти не ведая искусства музыки, краски, пластики? Воспитанный в каменных оштукатуренных стенах, не промокавший до озноба под дождями и вьюгами, глухой к тайному зову природы и жизни, я начал писать… о долге. Я не знал, как растет в поле хрустящий колосьями хлеб, не ведал, какие слова говорят человеку доброе зло и злая любовь, но я был твердо уверен в своем праве глаголить истины. Мне казалось, что прошлое — такое бессмысленное и кровавое, в котором я различал только голоса погибших — особенно же голос отца, — требует от меня, от моих ровесников какого-то неистового подвига, самоотречения. В экстазе от ритмических строк поэзии, от колдовской магии образного слова я, как молитвы, шептал клятвенные уверения в адрес прошлому. Все оно — горячечное, вздыбленное разрывами, опутанное колючей проволокой — казалось мне несказанно прекрасным, и в моих неуклюжих строчках жила подспудная тоска по минувшему, начисто лишенному плоти, прострелянного мяса, заскорузлых бинтов. Я был потрясен, найдя в библиотеке отца томик Уитмена. Теперь — бледный, остроскулый, грызущий на уроках ногти, подстриженный под бокс восьмиклассник — я был велик, велик заемной силой могучего рыжебородого гиганта, сжимающего в пудовом кулаке отточенный до блеска топор дровосека-первопроходца. Я шел через скалистые горы от Атлантики до Тихого океана, рубил тысячелетние секвойи, слушая могучее эхо в скалах от их падения, стрелял из винчестера и балансировал на палубе юркого брига, и ноги мои, в тупоносых с пряжками сапогах, твердо упирались в дубовую палубу с медными шляпками гвоздей.
Каким-то немыслимым пируэтом, весь во власти ритмики и возвышенного настроя, я врывался в конскую сумятицу острошлемных всадников, оскаленных от натуги лиц, стиснутых туго затянутыми у подбородков ремешками. Я слышал кляцанье и стукотню шашек, глухие удары копыт о грунт, падение мешкообразных вялых тел в длиннополых шинелях с просверками погон. И хриплый, простуженный звук трубы за холмами, там, за пыльным маревом, звал меня, тянул неодолимо и властно, и слова моей любви путались, становились несвязными, вскипали на глазах слезы, и сам я дрожал от восторга перед этим знойно-прекрасным прошлым.
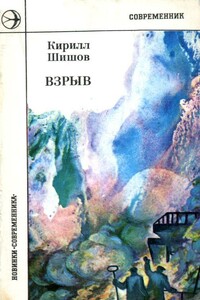
Герои произведений молодого челябинского прозаика Кирилла Шишова — инженеры, ученые, архитекторы, журналисты. Жизнь ставит перед ними сложные задачи, решение которых требует смелости и нравственной чистоты.Рассказы вводят нас в среду специалистов промышленности и строительства. Автор убедительно показывает, что только цельные, страстные люди способны созидать подлинно новое, закладывать фундамент будущего.
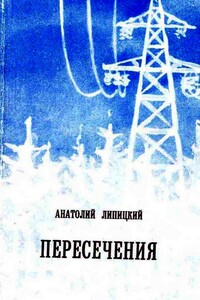
В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.
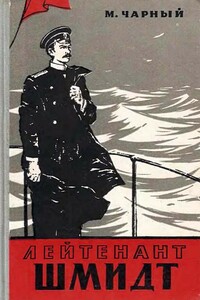
Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте — одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Книга посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
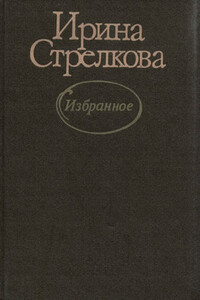
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.