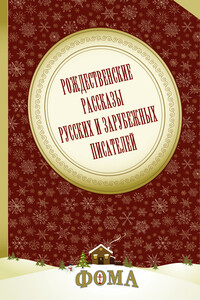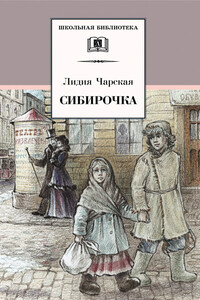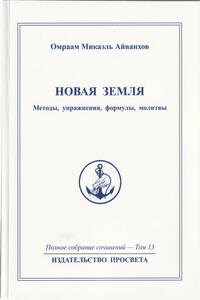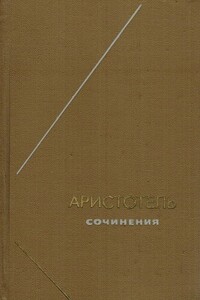Марк хотел уже спросить, что это значит и о чем галдит «рота» и чего хочет, как неожиданно взор его упал на единичную фигуру человека, отделенного некоторым расстоянием от толпы.
Это был Казанский.
Он говорил что-то, но голос его терялся в том гуле вскрикиваний и возгласов, которые рождала эта глухо волнующаяся толпа. Среди мужских голосов хрипло и пискливо звенели женские. И все сопровождалось бранью, грубой, циничной, беспощадной и дрянной.
Казанский начал было говорить что-то и смолк, не имея возможности перекричать эту беснующуюся, оголтелую толпу.
Едва он смолк, как из нее неожиданно вынырнул Извозчик и, обернувшись лицом к толпе и спиной к Казанскому, заорал, перекрикивая всех своим хриплым басом:
— Надул! Верно говорю, надул! Сам знаю. Хошь в момент под присягу! К Евангелию, Кресту! Он, дьявол, исправнику нас продал! Ей-ей! Он сыщик. Исправник на том и пригнал его. Вытребовал, значит! Что здесь, в «роте» все ему известно. Он вот Калмыка запорол. А за что! Все исправник. Велено ему Каину, видно, робя, «Пуговишнику» окаянному, чтобы не дошло до Питера худых дел тех, что в «роте» у нас. Вот он и поставил ево, Казанского. Что доглядчик был и переносил ему все. Не самовар тут, а «Пуговишник». Самовар что? Тьфу, самовар, — и энергично сплюнув, он присовокупил циничную фразу, от которой заржала толпа.
— Верно! — послышался заикающийся голос Калмыка, — пороли меня! А за что пороли: самовар-то! Велика важность — самовар. Кто из нас не «облюбует», коли плохо что! Не монастырь тут, а «рота». Тоже полиция — «Пуговишник» какой! Фараон треклятый! Сволочь!
— И бабы опять же! — снова загудел Извозчик, оборачиваясь уже прямо лицом к Казанскому, — что тебе, жалко, что ли? Зачем отделил? Бабы наши! Бабы без нас не хотят. Верно, бабы?
Бабы запищали что-то. Варька-«золоторотка», вытиснутая вперед, подскочила к Казанскому и бессмысленно завизжала, точно ее режут.
— Что ж это, робя! — послышался снова голос Михайлы Ивановича, — доколи допустимо? Покуда сам «Пуговишник» не нагрянет да учить нас не будет? Говорю, проданы мы, как сукины дети, как бараны!
— Проданы. Проданы. Сами знаем. Тут одно нам говорит, а там, у «Пуговишника» свое тянет. Известно, в холуях при нем и застрельщиком! Каин! Мразь, — послышались громкие возгласы в толпе. — И не пьет, гляди, робя, до пьяна не пьет. Чтобы не провраться. Хитер, сволочь.
— А меня порол, как Сидорову козу порол, а сам хуже. Черт. Кровопивец. Я украл, а он продал, своих-то, кровных продал. Старшина-то. Гы! Не бывало такого. Не бывало.
Кругом снова заржали. Но хохот разом оборвался, когда снова выступил из толпы Извозчик и, приблизившись к Казанскому, заговорил:
— Ты слышишь, что «рота» говорит? А? Ты что же молчишь? Язык проглотил или пропил, што ли?
Марк взглянул на Казанского и изумился тому спокойствию, которое было разлито по его лицу. Только глаза его, светлые, ясные, потемнели как будто и как бы ушли в себя мрачным и грозным взглядом. И ничего они точно не видели и в то же время как бы видели все, и опять он показался Марку необыкновенным, не человеком, а великим и странным, гораздо выше других.
И голос Казанского прозвучал мощно, когда он начал:
— Врете, собаки, и сами знаете, что врете на меня!
— Не ругайся, — взвизгнул Калмык, — не судья ты, а ответчик теперь, и чтобы ни-ни! — и он погрозил ему кулаком, робко как-то, косо, с оглядкой, как трусливый ребенок.
Казанский поймал его движение взглядом и усмехнулся снисходительной, почти доброй улыбкой. И улыбка эта еще более осатанила толпу.
— Дьявол! Чего зубы скалишь?! Исправницкий досмотрщик! Сыщик. Чует кошка. Не разжалобишь, дьявол; нечего глаза-то пялить, — задыхаясь, беснуясь и брызгая слюной, вопил Калмык, глупо и беспомощно топчась на одном месте. — Что ж это, робя, — оглянулся он на толпу. — Когда же всему безобразию конец будет? А? Доколь терпеть измытки его нам?
— Да, когда ж конец будет, чертова пуля, твоим измывательствам? — загудел хриплый бас Михайлы Ивановича. — Ты што облыжно нас ведешь? Отец, отец, старшина, заботник, а на дело-то что. Сжал нас в кулак, ни ходу, ни свободы, ни дохнуть, монастырь и то. Пенсивон какой, видишь, выискал. «Рота» мы, «рота», чуешь ты? А ты как? И сжал, и связал, и продал. Как спеленутых продал! Мразь! Чего молчишь-то? Уставил бурколы окаянные. Говори. Говори, гниль, тля подземельная, — заорал он неистово и, сорвавшись разом, замолк.
— Говорить мне с тобой нечего, — прозвучал спокойный, ровный голос Казанского, — не умеешь ты говорить со мной. Я прежде всего твой начальник и старшина.
— Какого дьявола начальник! Какого черта, — всколыхнулась и загалдела толпа. — Мы те в шею, начальнику, да по морде накладем. Вот тебе и старшина и начальник, ваше благородие! Выискался тоже! Ты нашу кровь в «Пуговишника» перелил, а мы тебе кланяйся? Начальник и есть, как же, будьте без сумления. Паршь ходячая.
— Бить такого-то. Бить его, сволочь, до смерти бить его, — взвизгивал пронзительными нотами голос Варьки. — Чего стали, черти, бить до смерти! Пусть издохнет. Собака окаянная. Падаль!
— И то правда. Кафтаном его накрыть да вздрючить до седьмого пота Иуду, Каина! — послышались мужские голоса.