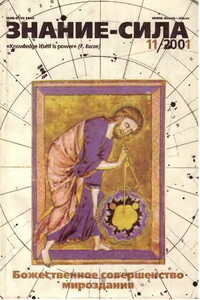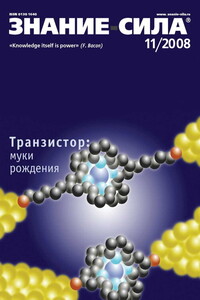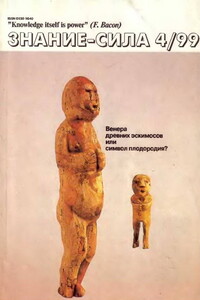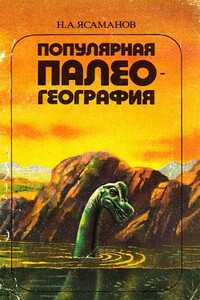По мнению ученика и соратника Поппера Имре Лакатоша, любая более-менее фундаментальная научная теория — это прежде всего программа дальнейших исследований. Она ставит вопросы, которые необходимо выяснить; делает прогнозы, которые можно и нужно проверять; рождает новые методы исследования. «Классический пример успешной исследовательской программы — теория тяготения Ньютона. Быть может, это самая успешная из всех когда-либо существовавших исследовательских программ. Когда она возникла впервые, вокруг нее был океан «аномалий» (если угодно, «контрпримеров»), и она вступала в противоречие с теориями, подтверждающими эти аномалии. Но проявив изумительную изобретательность и блестящее остроумие, ньютонианцы превратили один контрпример за другим в подкрепляющие примеры», — пишет Лакатош.
Способность превратить опровержение в подтверждение, исключение — в наглядную демонстрацию правила (причем не за счет более или менее изощренной софистики, а путем конкретного исследования — как это было в случае с нейтрино) — это и есть главная ценность крупной научной теории. И при столкновении на одном поле двух теорий торжествует всякий раз та, чья исследовательская программа оказывается плодотворнее. Впрочем, в споре двух теорий не стоит торопиться с определением окончательного победителя: теория, казавшаяся окончательно опровергнутой и отброшенной, может вдруг вернуться, решая проблемы, перед которыми спасовали ее победители. Начиная с середины XVII века в оптике соперничали корпускулярная и волновая теории света. В 1810-х — 1820-х годах волновая теория одержала решающие победы, а ее соперница была забыта почти на целое столетие. Однако в 1890-х — 1900-х годах физикам пришлось вернуться к взгляду на свет как на поток частиц… а еще через пару десятилетий оказалось, что эти теории вообще не противоречат друг другу.
Две программы Дарвина
Если посмотреть с этих позиций на историю эволюционной идеи в биологии, то многое становится ясным. Триумф эволюционизма во второй половине XIX века оказался возможен не только и не столько потому, что новая теория хорошо объясняла выглядевшие прежде загадочными факты, но прежде всего — потому, что из нее вытекала чрезвычайно обширная и плодотворная исследовательская программа. Эволюционная идея не только провозглашала, что все наблюдаемые в современном мире живые существа — результат длительного исторического развития, но и давала исследователям методы для реконструкции этого развития. Первые десятилетия после выхода «Происхождения видов» — время второго рождения сравнительной анатомии и палеонтологии. Еще одна важнейшая зоологическая дисциплина — сравнительная эмбриология — родилась под непосредственным воздействием эволюционных идей (сам факт сходства зародышей разных классов позвоночных задолго до «дарвиновской революции» заметил Бэр, но только эволюционная интерпретация этого факта Фрицем Мюллером и Эрнстом Геккелем превратила его в орудие исследования). Новый подход позволял прослеживать генеалогию не только видов и классов, но и отдельных органов и структур: различать в птичьем пере преобразованную чешую рептилий, в легких — вырост пищеварительного тракта рыбы, в электрическом органе южноамериканского угря — видоизмененные мышцы. Поле для исследований открывалось необозримое: перевод биологии на эволюционную основу был основным содержанием развития этой науки в последние четыре десятилетия XIX века. В общем же виде программа реконструкции эволюционных связей между различными группами живых существ и в целом истории жизни на Земле не завершена и по сей день.
Однако эта исследовательская программа практически никак не была связана с вопросом о механизмах эволюции — для ее выполнения было достаточно лишь признать реальность самого процесса. Именно это и делало возможным сосуществование огромного числа эволюционных теорий: они мало влияли на повседневную работу ученого. В свете наших сегодняшних знаний мы отчетливо видим, например, что теория Августа Вейсмана была гениальным прозрением, предвосхитившим важнейшие открытия биологии ХХ века. Но для реальных исследований теория Вейсмана давала не больше, чем любая другая из многочисленных в ту пору умозрительных теорий наследственности: ни сам Вейсман, ни кто-либо другой не мог доказать даже самую конкретную из его догадок — о том, что субстратом наследственности являются хромосомы.
С появлением генетики ситуация радикально изменилась — даже притом что взаимодействие новорожденной науки с эволюционистикой началось с прямого конфликта. Острое выяснение отношений между ними довольно быстро поставило вопрос «если наследственность и наследственная изменчивость устроены так— то и так-то, как это может эволюционировать?». Попытки ответить на него породили новую мощную исследовательскую программу, на сей раз направленную на изучение именно механизмов эволюции и ее элементарных процессов. Теперь ученые могли работать с четкими и однозначными объектами — генами — и строго измерять происходящие изменения. Результаты экспериментальных и полевых наблюдений, математических моделей, теоретических построений десятков авторов из разных стран к середине 1940-х годов сложились в довольно цельную концепцию, которая получила имя «синтетической теории эволюции» (СТЭ). Много (и в значительной мере справедливо) критикуемая за механицизм, упрощенность, умозрительность, абсолютизацию частностей, игнорирование специфики и множество иных смертных грехов, СТЭ тем не менее стала огромным продвижением в знаниях об эволюции — именно потому, что она с самого начала, со знаменитой статьи Сергея Четверикова, была прежде всего новой программой исследований. И в этом качестве оказалась исключительно плодотворной.