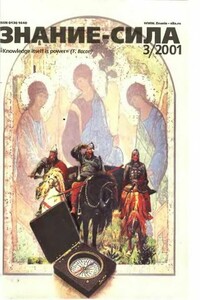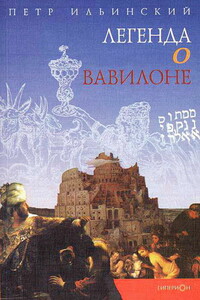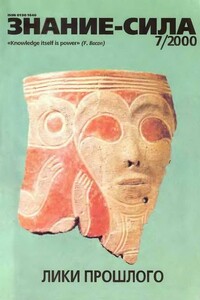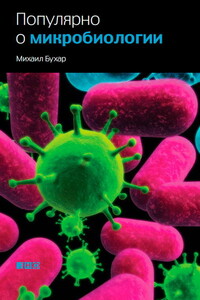Вообще культура дидактического письма и неклерикального публичного выступления в средневековой Европе почти отсутствовала. Появившись с Фаустом и его эпохой, она не могла принести той трагической амбивалентности, которая может быть выражена словами: или служи Богу и молчи, или говори (пиши), но тогда всегда есть опасность, что ты служишь дьяволу, потому что Бог не любит знания, ему нужно не знание, а вера. Поэтому знание без веры — удел дьявола, того, кого у нас зовут пересмешником. Идиотизм, чудачество, глумливость — это помимо всего прочего Фаустова печать, которую можно найти на бренном теле каждого современного сумасшедшего профессора.

В этом смысле фигура «сумасшедшего профессора» поистине трагична, как трагична судьба любого гения в том смысле, который это слово приобрело в постсредневековой культуре. Само существование интеллектуала в христианской Европе было отмечено противоречием — интеллектуал не может не творить, придумывать и изобретать, но в то же время он понимает: что бы он ни делал, он делает это поневоле в угоду дьяволу. Любое знание приближает Апокалипсис, поскольку всякое знание небогоугодно. Что уж там говорить о Витгенштейне и Хайдеггере, если об этом уже задумывались такие чистые души, как Святой Августин и Фома Аквинский. Но интеллектуал не мог не творить, потому что интеллектуалом его создал Бог, стало быть, его небогоугодная деятельность — часть Божьего промысла. В ХХ веке произошла секуляризация, и место Бога заняла Власть. В сущности, профессор Преображенский ничем не лучше профессора Персикова. Первый пересаживал обезьяньи яичники, второй — изобретал огромные яйца. И то и другое — занятие богомерзкое. Но поскольку оба профессора — атеисты, то здоровый цинизм Филиппа Филипповича приятен своей независимостью (он сам себе и Бог: захотел — создал, захотел — уничтожил). Персиков — в плену у власти, поэтому он отвратителен.
Здесь чрезвычайно важен фактор мужества принятия своей судьбы и своего противоречия. В советской философии роль профессора Преображенского выполнял Мераб Мамардашвили, который шел на компромиссы с властью с таким чувством собственного достоинства, словно император, посещающий отхожее место. Советским Персиковым на покое был Алексей Федорович Лосев, создавший особую советскую античность — эдакого земноводного виртуального монстра.
В клинической характерологии есть положение, в соответствии с которым телесная ущербность, уродливость неизбежно приводит к ущербности и уродливости характера. Примерно то же можно видеть в случае «сумасшедшего профессора». Исходная изначальная противоречивость его «нутряной» профессорской идеологии каким-то образом должна была проявиться либо в поведении, либо во внешней идеологии — то есть либо кривляние, глумливость и патологическая забывчивость, либо SAL, BER, JON, ROS. Впрочем, как известно, в ХХ веке разрыв между нормой и патологией настолько сократился, что, сказав «сумасшедший», можно не добавлять «профессор» — все и так поймут.
СЛОВА И СМЫСЛЫ
Владимир Иваницкий
Слова способны мутировать в неизвестном направлении под действием полностью внеязыковых причин. То же происходит с интонационными оборотами. Включите радио, найдите беседу или интервью и вслушайтесь, не обращая внимание на смысл. «Бла-бла-бла, потому что бла-бла-бла... ведь бла-бла- бла — Да-а-а? — Бла-бла-бла».
Чуть заискивающее, но обезоруживающее «ДА-А» со знаком вопроса или без. Оно вклинивается в речь говорящего, как мостик посреди болота — с провокационно вопросительной, манипуляторской интонацией. И нет ответа, надежен ли мостик, можно ли на него ступать, не провалится ли под ногами.
Чем поддерживает себя говорящий? Якобы согласием (вашим — которого вы не выражали), вроде бы кивком (вашим — которого вы не делали), утвердительным «Да», употребленным вопросительно.
Если б мы обладали безынерционным мозгом марсианина, сказали бы: «Послушайте, я НЕ кивал и НЕ выражал ни капли понимания в ответ. Мне не нравилось сначала и не стало симпатичнее в конце. Ваше «ДА-А?» с оттенком интимности, будто мы заодно, кажется мне вмешательством в личное пространство. Нечего выражать необоснованные претензии. На неверное предположение, что я вас понял, отвечаю тотальным «Нет».
Но разве такое произнесешь.
У каждого времени свои словечки- сорняки. Откуда Новое Вопросительное, не требующее ответа? Оттуда же — из телевизора. Впервые мы услышали его в начале 90-х в интервью экономистов-реформаторов, просвещенных либералов. Следует заметить, что «ДА-А?» формировалось в атмосфере надежд, но и непонимания, когда реформы бились о стену отчуждения.
Страна чувствовала, что «так жить нельзя», однако упорно сомневалась, что перемены задуманы не как хитроумная афера. У правозащитника в кольце правоохранителей тоже нет особенной уверенности, что логика его речи задевает нужные струны, да и просто понятна кому-нибудь, кроме него. Свободная, апеллирующая к разуму мысль в положении внутренней изоляции спрашивала, адресуясь к пространству. Ведь господствовало странное убеждение, что энтузиазм и запал реформаторов разделяет вся страна. Левое полушарие мозга было уверено. А правое сигнализировало: нет, обвалится, судьба реформ на волоске. Так оно и было: интуиция не обманывала. Обманывала логика оптимистической мысли.