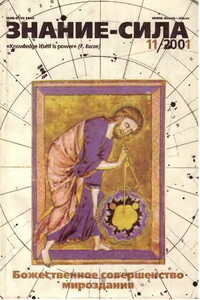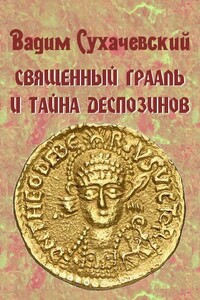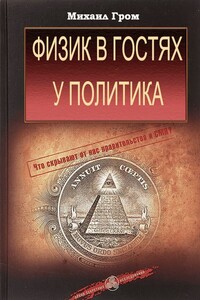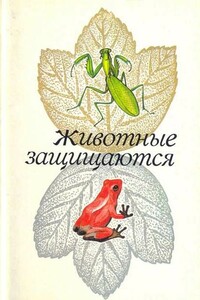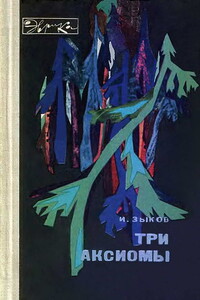В самом деле, какой-нибудь Валдемарпилс в Латвии — вне всякого сомнения, город, хотя в нем нет и полутора тысяч жителей. А вот полумиллионный Тольятти — не более чем "заготовка" города, причем испорченная еще в проекте столь основательно, что даст Бог, если к середине будущего[* То есть ХХI-го. (Прим, ред.)] столетия ее удастся как-то "довести". Дело не в размере. Петербург — весьма и весьма город, несмотря на растекшиеся его жилые районы, вроде Купчина или Веселовского поселка. Дело и не в возрасте: новехонький Шевченко, уверенно вставший на грань между Каспием и каменной пустыней Мангышлака, опознается как город сразу, а древний Суздаль — не более чем тень города, несмотря на многотрудные деяния реставраторов.
Так что же, в конце концов, делает населенный пункт городом?
Не в традиции российской словесности вдруг, одним скачком перескакивать от риторического вопроса к попытке ответа на него — сначала положено отойти на шаг-два и примериться. Обращение к отечественной истории помогает мало или, вернее, помогает через отрицание. Заглянем в "Лексикон Российской истории" В.Н. Татищева: "Град есть место укрепленное или без укреплений, в котором многие домы разных чинов, что военные или гражданские служители, купечество, ремесленники или чернь или подлый народ, и все обсче называются граждане, состоит под властию начальства. Но у нас токмо тот городом имянуется, который подсудной уезд имеет, а протчие или крепости, или пригороды и остроги".
Простодушный в своей тавтологичности критерий, согласно которому город был то место, куда назначался градоначальник, действовал с силой естественного закона до самой отмены крепостного права, порождая поистине странные ситуации, вроде продажи выгонных земель города Вольска за долги погоревшего Вольского купца.
Обращение к мемуарной литературе, вроде воспоминаний точного и злого Ф. Ф. Вигеля, убеждает в оправданности словосочетания "критический реализм". В самом деле:"На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной плошали, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно так же, как летом в деревне, где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него находился также между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности, восхищаться природой не умели".
Петербург был другим и за это именовался "холодным", но Москва отличалась немногим (вообще, заметьте, меняется только счет окон по фасаду), о чем прекрасно сказано в "Записках революционера" П.А. Кропоткина:
"В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета (заметьте: введение "чуждого Арбату" цвета ставится в вину авторам реконструкций улицы сегодняшними критиками! — В. Г.). Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходила "анфилада" парадных комнат... Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами.
Из проекта А. Игитханяна "Открытый город", 1999 г.
Впоследствии даже и в Старом Конюшенном стали появляться разные вычурные "трельяжи", стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволенными, и все гостиные были на один лая..."
Довольно ссылок на литературу. Сколько их ни набирай, суть останется та же: за исключением "холодного" Петербурга и еще очень немногих городов (должен подчеркнуть — это мое мнение, хотя его и разделяют многие социологи и градостроители) мы не могли унаследовать города из-за отсутствия такового, несмотря на обилие населенных пунктов. Именовавшихся городами. Никакой игры слоа здесь нет: городская культура, то есть универсальное культурное содержание, преломленное через призму именно городской среды, не успела сложиться. Ее место занимала сначала культура усадьбы, затем культура дачи, о чем лучше всего справиться у Чехова и Горького. У Андрея Белого или Леонида Андреева от города не осталось ничего, кроме тумана, у первого —c батровым оттенком, у второго со свинцовым, в котором едва были различимы желтые окна Блока. А вот чувство необходимости Города сложиться успело, чему свидетель первый истинно городской поэт страны — Маяковский.
Начавшись с движения за ликвидацию безграмотности, культурная революция в нашей стране служила фундаментом универсальному процессу индустриализации, средством своим имела вполне естественно, приобщение широчайших масс к ценностям универсальной культуры. Центром этого процесса стала (Москва, и она же трактовалась как универсальная модель города. Москва — и перед войной, и после войны — оказалась в роли по сути, единственного Города, образца для посильного подражания, предмета всеобщего любования. Уже не столько проза, сколько кинофильмы и песни с тридцатых до шестидесятых годов вновь воспроизводили эту модель, закрепляя ее в сознании.